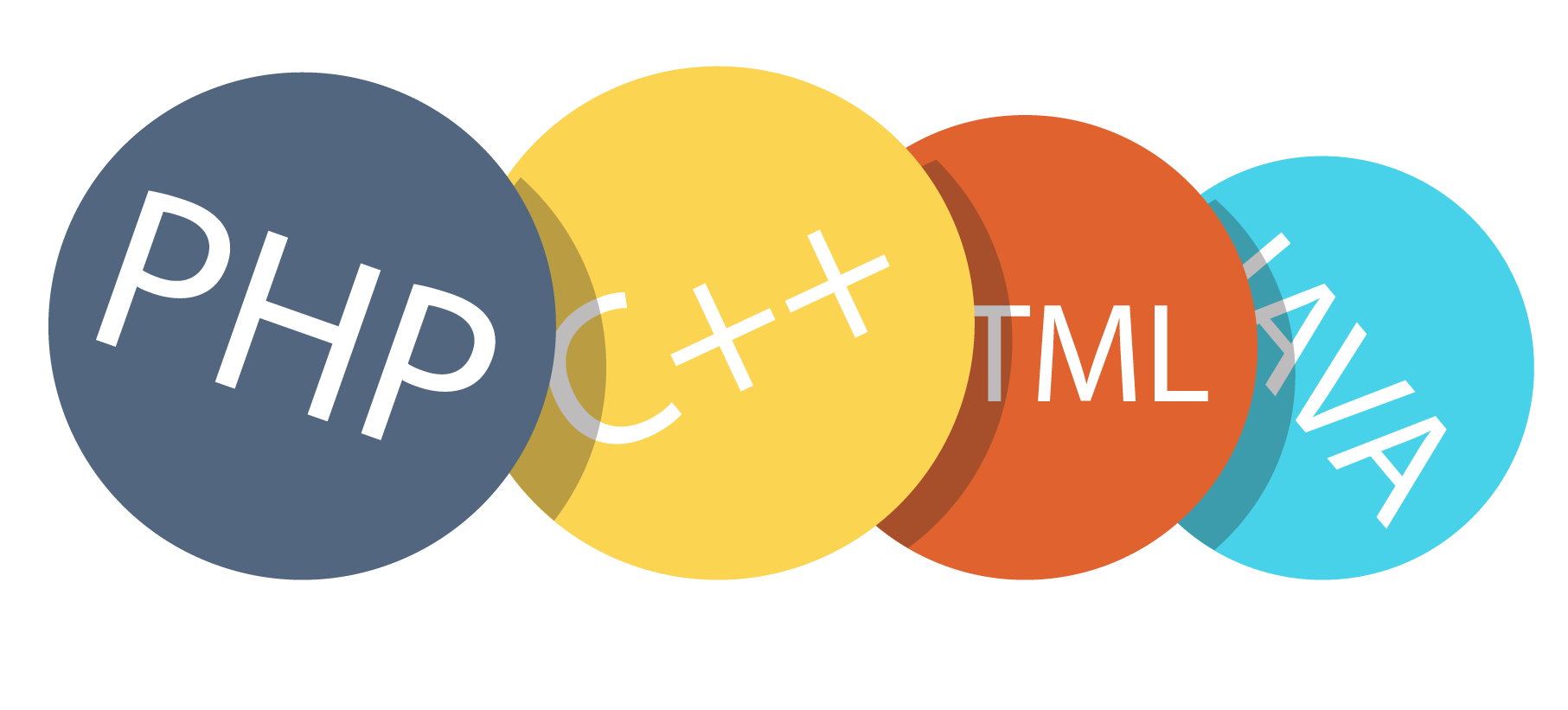Бородин говорил, что его заветная мечта — написать эпическую русскую оперу. Но как много и внутренних и внешних трудностей было на пути к осуществлению этой мечты!
В его воображении все отчетливее вырисовывалось мощное, монументальное здание будущей оперы.
Чтобы строить это здание, хотелось работать сосредоточенно, не разбрасываясь, не отрываясь ежечасно. Но так работать не удавалось.
Взявшись снова за «Игоря», Бородин сразу двинул дело вперед «львиной хваткой», как в таких случаях говорил о нем Стасов. Можно было подумать, что и дальше работа пойдет так же быстро. Но опять навалились всякие дела, и опера отошла на второй план.
Вот что писал об этом Бородин Кармалиной в апреле 1875 года:
«Вследствие учебных и ученых занятий, всяких комиссий, комитетов, заседаний и пр. и пр. мне почти не остается досугов для музыки. Я только урывками кое-когда улучу минутку, чтобы посмотреть что-нибудь новое, послушать других и т. д. Самому работать на музыкальном поприще почти не приходится. Если и есть иногда физический досуг, то недостает нравственного досуга — спокойствия, необходимого для того, чтобы настроиться музыкально. Голова не тем занята… Когда я болен настолько, что сижу дома, ничего
«дельного» делать не могу, голова трещит, глаза слезятся, через каждые две минуты приходится лазить в карман за платком,— я сочиняю музыку. Так и нынче, я два раз в году был болен подобным образом, и оба раза болезнь разрешилась появлением новых кирпичиков для здания будущей оперы. (Опера эта — «Князь Игорь». Материалы мне доставил В. В. Стасов. Либретто я стряпаю сам.) Написал большой марш «Половецкий», выходную арию Ярославны, «Плач Ярославны» для последнего действия, женский хорик в Половецком лагере, кое-что для танцев (восточных — так как половцы все-таки восточный народ). У меня уже накопилось немало материалов и даже готовых номеров, оконченных и закругленных (напр., хоры, ария Кончаковны и проч.). Но когда мне удастся все это завершить? — недоумеваю. Одна надежда на лето…»
И вот наступило это долгожданное лето. Бородины уехали в Москву, где поселились не в «курятнике», как называл Александр Порфирьевич крошечную квартирку своей тещи, а в пустовавшей тогда просторной квартире главного врача Голицынской больницы. Был там и рояль — необходимое орудие производства.
Лето в Москве оказалось плодотворным. Когда Бородин вернулся в Петербург, ему было чем порадовать друзей. Он писал жене, которая осталась в Москве на осень:
«Признаюсь, я даже не ожидал, что мои московские продукты произведут такой фурор — Корсинька в восторге, Модест тоже, Людмила Ивановна приглашает Петровых послушать их. Особенно меня удивляет сочувствие к первому хору, который мы пробовали в голосах и — без хвастовства скажу — нашли ужасно эффектным, бойким и ловко сделанным в сценическом отношении. Кончак, само собою разумеется, тоже произвел то впечатление, какого мне хотелось; кроме некоторых неловкостей, чисто голосовых (которые надобно исправить), в пении он выходит очень хорош. Особенно он нравится Корсиньке. Ему же, равно и Модесту, ужасно нравится тот дикий восточный балет, который я сочинил после всего в Москве; помнишь? такой живой в 6/8. Разумеется, все хором только и твердят, чтобы я писал поскорее остальное, не откладывая в долгий ящик. Кюи был у меня нарочно, чтобы послушать, но не застал; он, Стасов и Щиглев приходили за тем же к Корсакову, у которого я обещал быть,— но у нас как раз было заседание в этот вечер, и я не был у Корсакова».
В Москве у Бородина было достаточно времени для того, чтобы написать много нового, а в Петербурге он даже не мог найти нескольких часов, чтобы показать написанное Стасову.
Ни один влюбленный не ждет свидания с таким нетерпением, с каким Стасов ждал встречи с Бородиным. Он писал Бородину одно письмо за другим, в которых и требовал, и негодовал, и умолял.
Письмо от 17 сентября:
«Вчера вечером… следующие лица собрались у Римских-Корсаковых:
Николай Андреевич,
Надежда Николаевна,
Кюи,
Я,
Еще кто-то (фамилии не знаю*).
Дело состояло в том, что некто Бородин, всеми нами обожаемый (особливо мною), обещался быть со своею новою музыкою у Римск.-Корс. именно вчера вечером, а «Князь Игорь» черт знает как нас интересует, особенно вдруг подвинутый вперед львиною хваткою.
Но мы Вас прождали понапрасну и разошлись, повесив нос. В два дня — и две неудачи! Третьего дня я Вас не застал (приезжал я со Щербачевым), вчера Вы забыли обещание!!!»
Письмо от 19 сентября:
«Вчера вечером мы опять ждали и… так и не дождались Я в ужасе, что ее пи мне еще долго не придется услыхать «Игоря», про которого Римлянин рассказывает мне такие чудеса».
Бородин отвечал Стасову: «За горячее участие в судьбе «Игоря» и его безалаберного баяна (разумей меня, грешного) крепко жму Вашу руку. До субботы».
И только 21-го Бородин побывал наконец у Стасова.
А дальше снова завертелось колесо. Снова пошли комиссии, комитеты, экзамены, диссертации, отчеты, лабораторные занятия и пр. и пр.
Бородин шутя говорил, что в такие дни он даже забывает, что когда-либо занимался музыкой. Он сравнивал себя с одним из шекспировских персонажей, который на все вопросы отвечал: «Сейчас, сейчас!»
«Вы спрашиваете об «Игоре»? — писал он Кармалиной.— Когда я толкую о нем, то мне самому становится смешно. Я напоминаю отчасти Финна в «Руслане». Как тот, в мечтах о любви своей к Наине, не замечал, что время-то идет да идет, и разрешил задачу, когда и он и Наина поседели и состарились,— так и я все стремлюсь осуществить заветную мечту — написать эпическую русскую оперу. А время-то бежит со скоростью курьерского поезда: дни, недели, месяцы, зимы проходят при условиях, не позволяющих и думать о серьезном занятии музыкою. Не то что не выберется часа два досужего времени в день,— нет! — не выберется нравственного досуга; нет возможности отмахнуться от стаи ежедневных забот и мыслей, не имеющих ничего общего с искусством, которые родятся и кишат постоянно перед вами. Некогда одуматься, перестроить себя на музыкальный лад, без чего творчество, в большой вещи, как опера, немыслимо. Для такого настроения у меня имеется в распоряжении только часть лета. Зимою я могу писать музыку, только когда болен настолько, что не читаю лекций, не хожу в лабораторию, но все-таки могу кое-чем заниматься. На этом основании мои музыкальные товарищи, вопреки общепринятым обычаям, желают мне постоянно не здоровья, а болезни. Так было и нынче на рождестве, я схватил грипп, не мог заниматься в лаборатории, сидел дома и написал хор славления для последнего действия «Игоря»; точно так же во время легкой болезни я написал «Плач Ярославны» и т. д, Летом я написал больше, разумеется, ибо писал и в то время, когда бывал здоров; а вообще я хвораю редко. Всего у меня написано акта полтора, а всех четыре будет. Пока я доволен тем, что написано. Довольны и другие… Нужно заметить, что я вообще композитор, ищущий неизвестности, мне как-то совестно сознаваться в моей композиторской деятельности. Оно и понятно. У других она прямое дело, обязанность, цель жизни,— у меня отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего, настоящего дела — профессуры, науки».
В этой иронической фразе Бородин повторял ходячее мнение о нем. До него нередко доходили остроты и насмешки, которые отпускали по его адресу и присяжные музыканты, и присяжные профессора.
«Некоторые из присяжных музыкантов,— говорил он,— не могут мне простить, что я, занимаясь лишь в часы досуга музыкой, создаю такие вещи, которые обращают на себя огромное внимание, они же при всем старании не могут высидеть ничего путного. Ученые же коллеги косятся на мои занятия, видя в них поругание над ученой мантией. Вот если бы я «винтил» или занимался банковыми и биржевыми операциями — это было бы по-ученому».
И действительно, несмотря на то, что Бородин отдавал свои силы не одной только науке, но и музыке, он и в той и в другой области сделал неизмеримо больше, чем многие из «ученых в мантиях» и профессиональных музыкантов.
Гвардейский офицер Мусоргский бросил военную службу, чтобы все силы отдать музыке. Моряк Римский-Корсаков ушел для этого из флота. А Бородин не оставил химии и все-таки сумел стать одним из замечательнейших русских композиторов.
В этом нескончаемом споре между наукой и музыкой Бородин не мог отдать предпочтение ни тому, ни другому.
«…Я люблю свое дело, и свою науку, и академию, и своих учеников; наука моя—практическая по характеру занятий, а потому уносит множество времени; студенты и студентки мне близки и в других отношениях, как учащаяся молодежь, которая не ограничивается тем, что слушает мои лекции, но нуждается в руководстве при практических занятиях и т. д. Мне дороги интересы академии. Вот почему я, хотя с одной стороны желаю довести оперу до конца, но с другой — боюсь слишком увлекаться ею, чтобы это не отразилось вредно на моей другой деятельности. Теперь же, после исполнения хора из «Игоря», в публике стало уже известно, что я пишу оперу; скрывать и стыдиться нечего… Теперь волей-неволей придется кончать оперу. Немало этому помогает и горячее отношение к ней моих музыкальных друзей и большой интерес оперного персонала — Петровых, Васильева, Кондратьева и пр…»
«…Курьезно то, что на моем «Игоре» сходятся все члены нашего кружка: и ультрановатор-реалист Модест Петрович, и новатор в области лирико-драматической музыки Цезарь Антонович, и строгий относительно внешних форм и музыкальных традиций Николай Андреевич, и ярый поборник новизны и силы во всем Владимир Васильевич Стасов. «Игорем» пока все довольны, хотя относительно других вещей они во многом сильно расходятся. Вот Вам сказание о моем незаконнорожденном и еще не доношенном младенце «Игоре».
Нелегко было Бородину с этим младенцем-великаном. Ведь кроме множества внешних помех, были и огромные внутренние трудности, которые надо было преодолеть.
Проторенной дорожки в эпической опере не было. Глинка указал направление. Но «Руслан и Людмила» — это сказка. А Бородин хотел, чтобы в его опере ожило историческое прошлое русского народа. Его героями были не Руслан и не Черномор, а люди, которые действительно существовали,— князь Игорь и хан Кончак.
Чтобы создать такую оперу, надо было быть новатором.
Стасову принадлежала необыкновенно удачная идея — положить в основу оперы сюжет из «Слова о полку Игореве». Он знал, что такая задача по плечу и по вкусу Бородину. Работая над сценарием, он стремился извлечь из «Слова» все то, из чего можно было построить оперный сюжет. Так случилось, что в основе драматического действия оказалась личная судьба героев — Игоря и Ярославны, Владимира Игоревича и Кончаковны. Потому-то и кончался сценарий свадьбой сына Игоря и дочери Кончака.
Тема, так удачно найденная Стасовым, пленила Бородина. Но он скоро усомнился в правильности первоначального плана. Он задумался над тем, не будет ли ошибочным такое «третирование сюжета с драматической и сценической стороны». «Драматического здесь мало, движения сценического почти никакого».
Эти сомнения были одной из причин того, что Бородин отрекся от «Игоря». Очевидно, нужно было, чтобы прошло какое-то время и можно было заново пересмотреть весь замысел.
Прежняя традиционная драматическая форма не выдерживала эпического содержания: новое вино требовало новых мехов. Это противоречие между замыслом Бородина и сценарием не сразу дало себя чувствовать.
Начался длительный период творческого преодоления первоначального плана, а вместе с этим и ломка обычных оперных традиций.
Прежде всего Бородину стало ясно, что эпическую оперу надо писать крупными штрихами, что нельзя ее мельчить. Образы должны быть монументальными.
«По-моему,— писал Бородин,— в опере, как в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не должны иметь места; все должно быть писано крупными штрихами, ясно, ярко».
И вот, вместо того чтобы думать о деталях обычной оперной интриги, он сразу берется за создание человеческих образов.
Как Бородин-химик, отделив кристаллы, отбрасывал уже ставший ненужным раствор, в котором остались одни лишь примеси, так и Бородин-композитор постепенно удалял из либретто все мелочи, все, что было необязательно для обрисовки главных образов. Из оперы выпали купцы, рассказывающие Ярославне о том, что русская рать разбита и что Игорь попал в плен. Оказались лишними и готские девы, и иноземцы — товарищи Владимира Галицкого, и длинный разговор Ярославны с Овлуром.
То, что могло бы стать пружиной действия в опере обычного, не эпического склада,— любовная интрига между молодой красавицей и пленником ее отца,— отходит в «Князе Игоре» на второй план. Главная женская роль в опере принадлежит не Кончаковне, а Ярославне.
Образ Ярославны был очень дорог Бородину. Когда он только приступил к работе над оперой, он начал с того, что написал «Сон Ярославны». И когда в 1874 году он вернулся к оставленному замыслу, его воображение снова было захвачено все тем же поэтическим образом:
В мировой поэзии немного найдется произведений, где так прекрасно была бы выражена сила любви, более могущественная, чем все силы природы. Ведь недаром Ярославна обращается и к солнцу, и к ветру, и к Днепру Словутичу, то упрекая их, то призывая на помощь к
своей «ладе» — к своему милому:
«О ветер, ветрило? Зачем, господине, бурно веешь? Зачем несешь вражеские стрелы на своих легких крыльях на воинов моей лады? Мало ли тебе было в вышине под облаками веять, лелея корабли на синем море? К чему, господине, мое веселие по ковылю ты развеял?»
Только в народной песне, в народных плачах и причитаниях можно было найти образец для музыкального воплощения облика тоскующей Ярославны. И это сразу же давало направление всей работе. Не по старым, избитым тропам надо было идти и не обычную арию надо было создавать. Бородин смело ищет новую дорогу. И он ее находит. Ему удается создать в музыке то, что автор «Слова о полку Игореве» создал в поэзии.
В «Плаче Ярославны» до нас доходит не только живой голос женщины, которой давно уже нет на свете. В нем звучит вековечное горе многих матерей и жен. Это стон, который не умолкнет до тех пор, пока на всей земле не затихнет навсегда грохот битв.
Чтобы ярче оттенить образ Ярославны, Бородин противопоставляет ей Кончаковну. Не случайно ария Кончаковны была написана вскоре после «Плача Ярославны».
Обе они умеют сильно любить. Но русская женщина готова на самоотречение, когда этого требуют честь и долг. А Кон-чаковна — достойная дочь своего отца, восточного деспота. Что для нее честь и долг того, кого она любит? Она способна подвергнуть его смертельной опасности, лишь бы не отпустить.
И так же, методом контрастов дает Бородин Игоря. Еще прежде чем образ Игоря нашел свое выражение в арии «О, дайте, дайте мне свободу», Бородин создал для контраста образ Владимира Галицкого.
Он писал в 1879 году Стасову:
«Кое-что успел сделать: 1) Владимира Галицкого, который имел только три слова речитатива, сделал персонажем; написал ему два речитатива и весьма циническую песню, характеризующие его отношения ко всему вообще и к Ярославне в частности. Это — вставка в хоровую сцену 1-й картины 1-го действия. Для 2-й картины написал дуэт Владимира Галицкого с Ярославною; женский хор и сцену с Ярославною; во всем этом еще рельефнее обрисовывается Владимир Галицкии. Теперь это вышла маленькая, но довольно рельефная роль. При всем цинизме я сделал его князем, и не слишком грубым, а то это был бы второй экземпляр Скулы. Это просто скверный га-мен, цинический, но не лишенный некоторого изящества и вовсе не жестокий тиран»
Два князя—два разных взгляда на честь, власть, любовь:
|
Пожил бы я всласть,— Ведь на то и власть,— |
говорит Владимир Галицкии.
А для Игоря быть князем — значит служить русской земле, охранять ее, бороться с ее врагами.
Игорь — это воплощение идеи патриотического долга, героизма, воплощение чести.
|
С честью пасть иль врагов победить И с честью вернуться. |
А Галицкий совсем по-другому понимает значение слова «честь»:
|
Только б мне дождаться чести, На Путивле князем сести, Я б не стал тужить, Я бы знал, как жить. |
От чести пасть за родину Владимир Галицкий предпочел бы отказаться. Этот циничный «гамен» — «скверный мальчишка» — нужен был Бородину, чтобы оттенить характер Игоря, его мужество, его верность отечеству.
Но Игорю противопоставлен не только Владимир Галицкий. Еще ярче и значительнее контраст между русским князем и половецким ханом, образ которого также был создан Бородиным еще до того, как вырисовался образ Игоря. Так художник, накладывая тени, выделяет ими то, что должно стать самым светлым и ярким в картине.
Льстивыми речами и обещаниями искушает русского князя Кончак. Он предлагает Игорю все, что ему самому кажется желанным.
Все соблазны проходят перед Игорем. Страстные, томные песни и пляски невольниц зовут его к наслаждению.
говорит хан.
Он предлагает князю свою дружбу:
|
Ах, не врагом бы твоим, А союзником верным, А другом надежным, А братом твоим Мне хотелось бы быть,— ты поверь мне. |
Хан властолюбив. Для него власть — это господство над порабощенными. И он обещает Игорю разделить с ним это господство:
|
Как два барса, рыскали бы вместе, Кровью вражьей вместе упивались И всех в страхе держали под пятой, Чуть что,— так на кол или голову долой. |
В этой сжатой формуле — весь Кончак.
Бородин, как ученый, сопоставляет в своем произведении три возможных взгляда на власть: власть для служения народу и родине (Игорь), власть, чтобы всех держать «в страхе под пятой» (Кончак), власть для того, чтобы «жить всласть» (Владимир Галицкий).
Мог ли Игорь принять предложение Колчака? Он и же-ланну свободу не взял из рук хана, потому что это было бы изменой родине. Ведь обещая ему свободу, Кончак поставил свои условия:
|
Дай только слово мне, что на меня Меча ты не поднимешь. |
Будь Игорь таким же коварным хищником, как Кончак, он дал бы слово — и нарушил его. Но он честен и прям, даже когда имеет дело с врагом.
Он отвечает:
|
Лишь только дай ты мне свободу, Полки я снова соберу И на тебя ударю вновь. |
Он сам добывает себе свободу, чтобы спасти Русь и сломить ее врагов.
Когда Бородин изучал в лаборатории новое вещество, он действовал на него реактивами, чтобы узнать его свойства. Работая над образами в опере, он тоже заставляет своих героев вступать во взаимодействие для того, чтобы они при эгом лучше и ярче проявили себя. Он испытывает Игоря Кон-чаком, как золото пробуют кислотой. И так же точно моральная высота Ярославны выявляется с особенной силой в разговоре с Владимиром Гал«цким.
В каждой из таких сцен для Бородина главное — не развертывание драматического сюжета, а-яркий, контрастно-четкий показ образов.
Мусоргский писал поэту Голенищеву-Кутузову: «Да, бишь находился у Л. И. Шестаковой… Бородин показывал фрагменты из «Игоря»,— много настоящего. Ты, говорят, скоро приедешь, стало быть, лучше объясниться при свидании… В амальгаме, очень симпатичной, драматического творчества Бородина сидит лекция: ты, как художник, ее почуешь мигом. Ты меня, надеюсь, понял: Бородин приказывает своим героям резюмировать из столкновения фактов, случайностей — как хочешь, все равно. При всей симпатичности сочинения слушателю нет вывода…»
Научная четкость и наглядность в изображении героев были правильно подмечены Мусоргским. Но было ли это недостатком оперы?
Нет, в этом была ее сила. Бородин-ученый и Бородин-художник в ней неразделимы. «Князь Игорь» — это не амальгама науки и искусства, а их органическое единство.
Обобщение у Бородина нигде не переходит в отвлеченность. Он мыслит в масштабе веков и народов и в то же время видит душу каждого отдельного человека. Его герои, при всей их монументальности и четкости контуров, остаются живыми людьми.
Это не бронза, а кровь и плоть.
Разве не доходит до нас плач Ярославны? Героизм Игоря только подчеркивается тем, что он способен на чувства, свойственные каждому человеку:
Этот тяжелый вздох, повторенный оркестром, находит отклик в сердцах слушателей.
И в то же время Бородин умеет вызвать и смех, противопоставляя комическое трагическому.
Героизм воинов, готовых честно за родину голову сложить, кажется еще выше, когда мы видим Скулу и Ерошку, смешных и трусливых людей, которые отстают от выступающего в поход войска, потому что «боязно; убьют, гляди». Они ищут службу по себе у князя Галицкого: «Там и сытно, и пьяно, и целы будем».
У Стасова в сценарии нет Скулы и Ерошки. Введя их в число действующих лиц, Бородин сделал оперу еще более жизненной, правдивой. Он и тут следовал не только художественной, но и исторической правде.
В летописи говорится о воинах из племени ковуев, которые входили в состав черниговского отряда. (Ковуи были когда-то кочевниками, но потом обрусели и переменили кочевой образ жизни на оседлый.) Во время решающей битвы они одни из всего русского войска обратились в бегство.
В бумагах Бородина есть запись: «Скула и Ерошка — из возмятошившихся ковуев черниговских Ольстина Олексича, бежавших с поля сражения. Пристали, естественно, к Владимиру Галицкому оба ковуи».
Но Скула и Ерошка понадобились Бородину не только для исторической правды и не только как контраст к образам героев. Они нужны были ему и для того, чтобы сделать более ярким и многогранным музыкальное содержание оперы.
Ведь древнерусская музыка воплощалась не только в героических песнях таких певцов, как Баян, но и в сатирических песенках скоморохов.
Шутки и прибаутки скоморохов придают опере еще более реалистический характер.
Все это дало возможность Бородину показать далекое прошлое так, чтобы оно казалось нам живым и близким…
|
Солнцу красному — слава, Слава в небе! У нас Князю Игорю слава, Слава у нас на Руси! |
Этот хор во славу князя Игоря, выступающего с войском в поход против половцев, Бородин написал для последнего действия оперы.
Но потом он перенес его в пролог, которого не было в ста-совском сценарии.
Такое изменение плана, казалось, не вносило ничего нового: это была только перестановка. Но достаточно было переставить хор из последнего действия в пролог, чтобы вся опера зазвучала иначе. Ведь теперь с самого же начала на сцену выходил народ.
Недаром Бородин отводил этому хору такое важное место в опере.
Он писал Кармалиной: «Хор славления, исполненный в концерте Бесплатной школы, имел большой успех, а для судьбы моей оперы имел существенное значение».
Но, изменив начало оперы, Бородин должен был изменить и ее конец.
В первоначальном плане опера должна была кончаться свадьбой Владимира Игоревича и Кончаковны. Но эта традиционная свадьба в последнем действии тут была совсем неуместна. Она была явно из «другой оперы». И вот у Бородина в последнем действии народ славит Игоря, вернувшегося из плена.
А. Н. Молас (урожденная Пургольд) вспоминала потом, что в финале Бородин предполагал дать арию — клич князя Игоря к дружине с призывом к новому ответному походу.
А вот что пишет об этом академик Б. В. Асафьев: «Лично мне Стасов много рассказывал о ходе работы над «Игорем» и, между Прочим, точнее и категоричнее говорил об эпилоге оперы, где, в сущности, вновь и ярче и сильнее народ славил выступление князя в поход на основе музыки «Славы» пролога…»
Профессору П. А. Ламму удалось восстановить по рукописям Бородина вариант арии Игоря. В плену, окруженный врагами, Игорь обращается к русским князьям, призывая их объединиться для общей борьбы с половцами.
Как и автор «Слова о полку Игореве», Бородин хотел подчеркнуть, что неудавшийся поход северского князя — только один эпизод многовекового столкновения народов. В этом столкновении на одной стороне была землевладельческая Русь, на другой — кочевой Восток. Печенеги, половцы, татары сменяли друг друга, как кочующие волны моря, стремящиеся затопить землю.
Это была борьба двух эпох, культуры и варварства, передового и отсталого — та борьба, в которой выковывались и судьбы народов, и судьбы людей.
Вот это Бородин и сумел показать в своей опере.
Один из творцов науки, друг Менделеева и Бутлерова, он оставался большим ученым и тогда, когда работал над оперой. Это сказалось не только в кропотливом изучении летописей. Каждый, кто занимается наукой, всегда начинает с изучения материала. Научный гений Бородина проявился в том, что он и в искусстве сумел подняться до общих законов, которым подчинены частные явления. Произведение на историческую тему стало в его руках не только большим историческим полотном, но и большим научным обобщением.
Бородину неизвестно было и не могло быть известно то письмо Маркса к Энгельсу, в котором по поводу «Слова о полку Игореве» сказано, что «смысл поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов»*.
Но именно это увидел Бородин в «Слове»: не просто поход одного из русских князей против половецких ханов Гзака и Кончака, а мощное движение целого народа против варварского нашествия.
Опера называется «Князь Игорь». Но Игорь представлен в ней не как отдельный человек, а как выразитель воли многих тысяч русских людей. Вот почему Бородину нужно было с самого же начала показать в опере народ в единении с вождем. Этого требовала и художественная и историческая правда.
Ипатьевская летопись рассказывает:
«Когда Игорь увидел, что он собрал против себя всю землю половецкую, он сказал об этом своей дружине. Тогда все сошли с коней и решили с боем пробиться к Донцу, говоря: «если побежим и спасемся сами, а черных людей оставим, то это будет наш грех перед богом. Так умрем же или останемся живы все вместе». Сказав это, они сошли с коней и пошли, сражаясь. Игорь был ранен в руку, и печаль была великая в полку его».
Так, по свидетельству летописи, борьба с общим врагом объединила всех —и князей, и дружину, и «черных», то есть простых людей.
Делая народ действующим лицом, Бородин следовал исторической правде. Но для этого ему пришлось, так же как Мусоргскому в «Борисе Годунове», сломать общепринятые оперные традиции…
Весь этот огромный замысел не сразу получил четкие очертания. Либретто росло органически вместе с музыкой, по мере того как Бородин все глубже входил в работу. «Вон оно как сочиняется,
органически-то, либретто!» — писал он Стасову.
Работая как поэт над образами героев, Бородин одновременно как композитор ищет музыкальное выражение для этих образов. Он находит для каждого из них характерную основную тему. По этой теме мы узнаем героя даже тогда, когда она звучит не в его устах, а в устах другого действующего лица или в оркестре.
По бесшабашному, покачивающемуся напеву мы узнаем князя Галицкого. Его возгласу «э-эх!» в оркестре отвечает удар литавр, словно звон брошенного об пол кубка.
Мужественная, величаво-спокойная мелодия характеризует Игоря.
В опере есть и такие мелодии, которые связаны не с Игорем и не с Ярославной в отдельности, а с ними обоими, с темой их любви. Вспоминая об Игоре, Ярославна поет ту же мелодию, которую Игорь поет, вспоминая о ней.
Так перекликаются они, преодолевая разделяющее их расстояние:
|
В терему твоем высоком Вдаль глаза ты проглядела,— |
поет Игорь в плену.
И Ярославна отвечает ему из Путивля тем же напевом:
|
Я кукушкой перелетной Полечу к реке Дунаю. |
Вместе с разработкой образов в поэтическом и в музыкальном плане шли и поиски четкого построения каждого акта и всей оперы в целом.
Словно грани в кристалле, картины в опере строятся не случайно, а по точным законам симметрии и противопоставления.
Таковы, например, пролог и первая картина первого действия.
В прологе народ славит князя-героя, готового отдать жизнь за родину.
В первой картине разгулявшаяся челядь славит князя-бражника, охотника весело пожить.
В прологе вооруженная рать выступает в поход против общего врага.
В первой картине пьяная ватага затевает бунт, чтобы сместить Игоря и посадить на его место Владимира Галицкого.
И каждая картина в отдельности тоже строится по ясному и четкому плану.
Герой и хор как бы дополняют друг друга. Личность не оторвана от народа, а связана с ним, как часть с целым.
Игорь кажется еще больше и величественнее оттого, что он не один, а с ним могучая сила, воплощенная в народе.
Галицкий еще ничтожнее оттого, что он показан в кругу таких же пропойц без чести и совести.
Кончак дан вместе со своей полудикой ордой. Буйные пляски и песни в половецком стане подчеркивают стихийную силу этого варварского мира.
Каждая картина — не частный случай, а обобщение. И в этом снова видна мысль ученого.
Со всей правдивостью ученого и художника Бородин показывает величие русского народа; но он не унижает и половцев, не отказывает в своеобразной дикой красоте и всему кочевому миру. Такое творчество не разъединяет, а связывает народы, как бы предвещая их будущее братство в общей семье.
Русские композиторы не раз в своей музыкальной работе обращались к Востоку. Восточные темы звучат во многих их произведениях.
На ходу, во время стройки, Бородин изменял весь архитектурный план громадного здания, отбрасывая одно, добавляя Другое.
В этом процессе менялся не только план, но и весь характер оперы, вырабатывались законы ее построения. Ведь надо было создать то, для чего не было образцов. Старое, привычное кое-где еще мешало новому.
Любовная интрига между Владимиром Игоревичем и Кон-чаковной, их диалог («Любишь ли ты?»— «Люблю ли я тебя?») можно было бы взять и из традиционного оперного арсенала. А вот такую вещь, как «Плач Ярославны», не найдешь ни в какой другой опере.
Будь «Князь Игорь» оперой обычного, не эпического склада, автор должен был бы построить ее так, чтобы каждая линия сюжета была доведена до конца, чтобы выяснилось, например, был ли наказан порок в лице Владимира Галиц-кого, вернулся ли Владимир Игоревич в Путивль и как была сыграна свадьба его и Кончаковны.
В первоначальном плане обо всем этом шла речь. Но Бородину в его эпическом повествовании это было не нужно: и Владимир Галицкий и Кончаковна уже свое дело сделали, заняв то место на большом полотне, которое им было предназначено.
Не показан и исход войны с половцами. Но и это не требовалось.
Ведь вот же «Илиада» не доведена до разрушения Трои, и все-таки она дает удивительно цельное представление о жизни людей эпохи Троянской войны. Образы Ахиллеса, Гектора, Андромахи производят впечатление необыкновенной законченности.
В опере «Князь Игорь» тоже нет завершения борьбы между враждующими народами Бородин записал в одном из своих черновиков: «Окончательной победы над половцами не было».
Но такой завершающий эпизод и не обязателен был для эпического произведения. Опера и без него могла существовать как цельный организм. Мир, который изображен в «Князе Игоре», показан во всем его живом единстве.
Бородин сознательно отказался от легкого пути, от того, что некоторые профессионалы называют «хорошо закрученной интригой». Она помешала бы ему в осуществлении его замысла.
Он, как всегда, пошел неисхоженной дорогой новатора. Это сказалось не только во всей архитектуре оперы, но и в ее музыкальном звучании. И тут тоже надо было найти новую форму для нового содержания.
Работая над либретто, Бородин углубился в изучение «Слова о полку Игореве», летописей, «Задонщины», «Мамаева побоища». В поисках музыкального материала он тоже обратился не к готовым образцам, а к первоисточникам.
Рядом с летописями на его столе появились сборники русских и восточных песен.
Как раз в эти годы Римский-Корсаков составлял свой сборник русских народных песен и работал над их гармонизацией. Ему помогали в этом все те, чьей памяти и музыкальному слуху он доверял. Таких было немного. Среди них Римский-Корсаков называет в своих воспоминаниях Екатерину Сергеевну и уроженку приволжских губерний Дуняшу Виноградову, которая много лет служила у Бородиных.
Каждый раз, когда Бородины уезжали в деревню, Александр Порфирьевич набирался там не только здоровья и бодрости, но и музыкальных впечатлений.
Как сказочный титан обретал свою мощь, прикасаясь к матери-земле, так и Бородин черпал новые творческие силы, когда соприкасался со стихией народных песен. Эти песни находили живой отзвук в его душе, будили его воображение.
Вот вдали в самом конце деревенской улицы послышалось пение. Это возвращаются с покоса крестьяне соседней деревни. Все слышнее голоса. Уже можно разобрать слова песни. Бородин внимательно прислушивается к тому, как подголоски то сливаются с основным напевом, то выводят свою собственную мелодию.
Сколько давнего сдержанного горя в этой протяжной песне!..
Крестьяне проехали мимо. Голоса затихают вдали. Уже не слышно ни песен, ни стука колес. Но глубокое и сильное впечатление осталось.
Под влиянием такой песни, услышанной в деревне, Бородин написал чудесный хор поселян для последнего действия «Игоря»:
|
Ох, не буйный ветер завывал, Горе навевал… |
Но Бородин не довольствовался случайно услышанными песнями,— он сам их разыскивал, как драгоценный материал для работы.
Одну такую находку ему посчастливилось сделать на родине А. П. Дианина, в селе Давыдове Владимирской губернии. Там Бородины провели три лета подряд — с 1877 по 1879 год.
С. А. Дианин рассказывает в своей статье «А. П. Бородин в селе Давыдове»:
«Подобно тому как в лесах близ Давыдова, уже основательно порубленных, все еще удавалось тогда найти, наряду с молодой порослью, могучие сосны, ели и дубы, там оказывалось еще возможным отыскать и старинные напевы прекрасных народных песен, еще жившие в памяти отдельных немногочисленных представителей старших поколений Александру Порфирьевичу посчастливилось напасть на одно такое сокровище, полностью нам, увы, неизвестное.
Дело было так. В поисках нужной ему песни Бородин обратился к знакомому ему крестьянину деревни Новское Ивану Петровичу Лапину; этот последний привел к Александру Порфирьевичу своего родственника, старика 73 лет, некоего Вах-рамеича, жившего в деревне Новая Быковка Вахрамеич, знавший много старинных песен, сообщил Бородину какой-то новый вариант песни «про горы Жигулевские», или «про горы Воробьевские», который и лег в основу темы «хора поселян» для IV действия «Игоря».
Бородин обрадовался, когда услышал еще один вариант этой песни, которую он знал и раньше по сборнику Прокунина и над напевом которой уже работал.
Слова песни так поэтичны, что их нельзя не привести целиком:
|
Ах вы, горы-горы Воробьевские (4 раза). Породили горы Бел горюч камень, Из-под камня речка Текла быстрая. Как на той на речке Част ракитов куст. На том на кустике Сидит сиз орел, Во когтях он держит Черна ворона. Не бьет он, не мучит, Все выспрашивает: «Ты скажи, скажи мне, Млад черный ворон! Уж как, где летал ты, Где полетывал?» — «Летал во степях я Во саратовских; Видел во степях я Диво дивное: Что лежит средь поля Тело белое. Лежит, лежит тело Молодецкое. Прилетали к телу Да три пташечки; Как первая пташка — То родная мать; А вторая пташка — Сестра милая; А третья пташка — Молода жена. Уж как мать-то плачет, Что река льется; А сестра-то плачет, Что ручей бежит; А жена-то плачет, Что роса падет. Взойдет красно солнце — Росу высушит». |
Печальная музыка песни так же прекрасна, как ее слова.
Бородин пришел от нее в такое восхищение, что решил воспользоваться ею для «Князя Игоря».
Это удалось убедительно показать С. А. Дианину. Он пишет в той же статье:
«По настроению своего напева «Песня про горы» подходила для музыкальной иллюстрации трагических частей оперы, для музыки тех сцен, где совершаются грозные события или где налицо печальные настроения у действующих лиц.
Бородин придумал остроумный способ использования напева цитированной песни: он не поместил ее целиком в каком-либо музыкальном номере «Игоря», а разбил ее на отдельные части — на составляющие ее мотивы («попевки»). Из этих «попевок», как некоторого рода музыкальных атомов, он создал новые прелестные и разнообразные музыкальные мысли-мелодии для своей оперы. Таким образом, «Песня про горы» получила значение какого-то скрытого наигрыша, придающего «Князю Игорю» единство при кажущемся разнообразии его музыкального содержания.
В соответствии с характером напева «Песни про горы» Бородин использовал ее элементы в почти неизменном виде в наиболее трагичной части оперы — в финале 1-го действия, где для построения первой сцены употреблены два мотива: начало песни — для хора «Мужайся, княгиня», и нисходящий ход — для возгласов Ярославны. Этот же ход, в несколько измененном виде (как говорят музыкальные теоретики— «в увеличении»), характеризует (в конце финала) ужас перед вражеским нашествием.
Напротив, в частях оперы, более светлых по настроению,— в хоре славления в прологе и в заключительном хоре,— мотивы «Песни про горы» как бы «замаскированы», и их можно обнаружить лишь путем довольно непростого музыкального анализа».
Интересно в работе С. А. Дианина сравнение «попевок» с «атомами» музыкальной тематики, из которых Бородин строит мелодии для оперы.
Народные песни — вот материал, который стал основой «Игоря».
Но это не простое перенесение песен в оперу. Бородин так глубоко проник в дух народной музыки, что ему удавалось создавать напевы, которые трудно отличить от народных.
Бородин мог бы пойти и другим путем: сделать мелодической основой оперы интонации человеческой речи. Так он поступил, когда создавал партию Владимира Галицкого, где в мелодии слышится бесшабашная, пьяная речь гуляки, который еле держится на ногах. Восточный склад речи чувствуется в речитативах Кончака.
Но не от разговорных интонаций, а от песни шел Бородин в работе над оперой.
Он писал:
«Нужно заметить, что во взгляде на оперное дело я всегда расходился со многими из моих товарищей. Чисто речитативный стиль мне был не по нутру и не по характеру. Меня тянет к пению, кантилене, а не к речитативу, хотя, по отзывам знающих людей, я последним владею недурно. Кроме того, меня тянет к формам более законченным, более круглым, более широким. Самая манера третировать оперный материал— другая…»; «Голоса должны быть на первом плане, оркестр — на втором. Насколько мне удастся осуществить мои стремления,— в этом я не судья, конечно, но по направлению
опера моя будет ближе к «Руслану», чем к «Каменному гостю», за это могу поручиться…»
Источник: