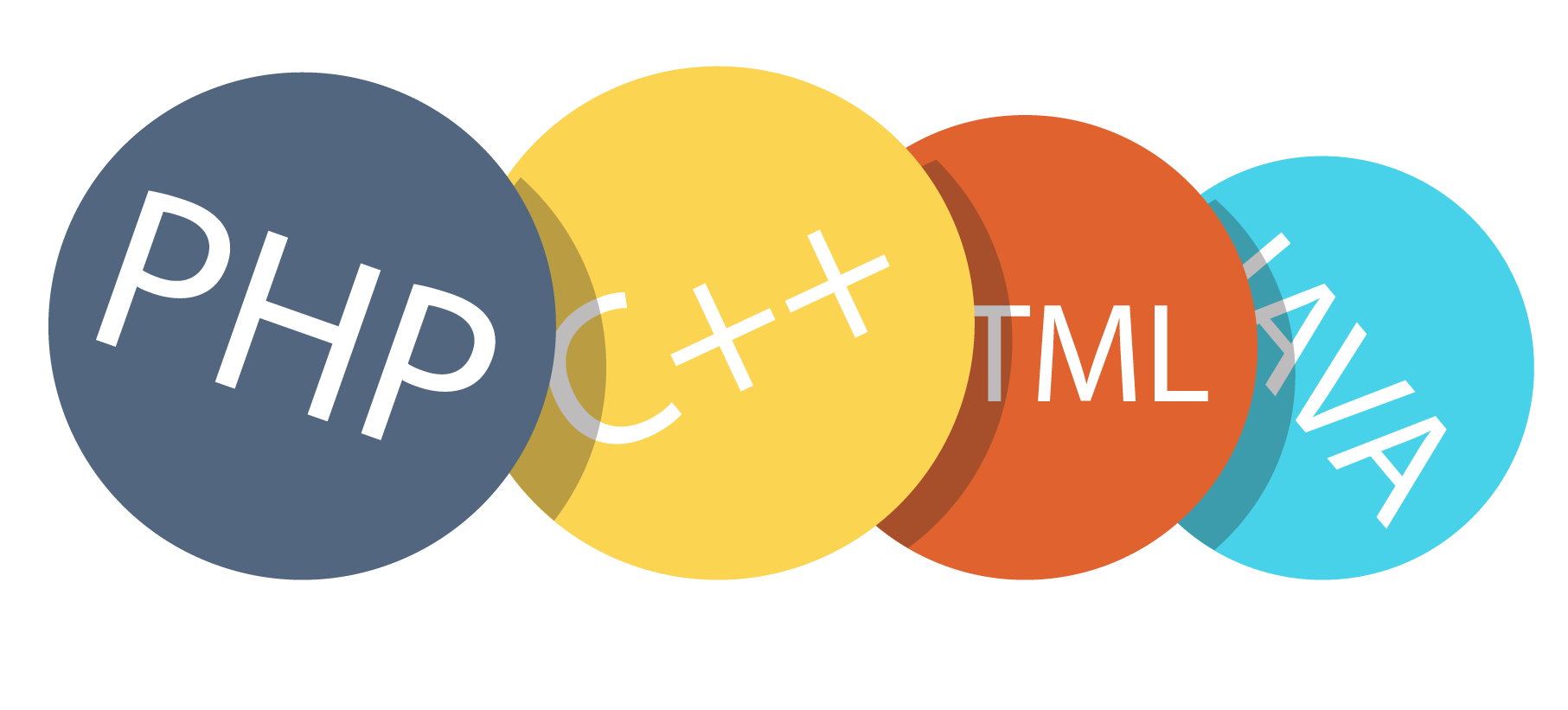В то время как музыка и химия вели между собой спор, кому из них должен принадлежать Бородин, Медико-хирургическая академия делала свое дело. А дело это состояло в том, чтобы провести студента через все многочисленные аудитории, лаборатории и клиники, через все дебри анатомии, физиологии, патологии, терапии, хирургии, фармакогнозии, фармации. Каждый год академия, как огромная машина, вбирала в себя толпу безусых юношей и каждый год выпускала очередной отряд молодых лекарей, напичканных всевозможной премудростью. В их головах, словно на полках библиотеки, каким-то чудом помещались сотни фолиантов, наполненных несчетным количеством латинских названий, обозначающих кости, связки, мышцы, болезни, лекарственные вещества.
Они могли перечислить по пунктам все симптомы той или другой болезни, могли сказать, против каких симптомов maxime laudetur, то есть больше всего рекомендуется то или другое лекарство, умели по всем правилам науки сделать сложнейшую операцию на трупе. Но лечить живых людей они еще не умели.
Для практики молодых лекарей рассылали в разные города по военным госпиталям, а оттуда через год направляли в полки и команды.
Тех, которые хотели защитить диссертацию на степень доктора медицины, прикомандировывали ко Второму военно-сухопутному госпиталю, находившемуся рядом с академией и в ее ведении. В этот же госпиталь назначали ординаторами лучших воспитанников, оставленных при академии для подготовки к профессуре.
К таким лучшим воспитанникам принадлежал и Бородин. Из года в год он первым переходил на следующий курс. Только один раз ему не повезло: на экзамене по «закону божьему» он вздумал по-своему толковать текст священного писания. Наказанием за эту дерзость была неудовлетворительная отметка.
По всем другим предметам он шел блестяще, профессора не могли не заметить его необыкновенных способностей.
Еще за полгода до выпускных экзаменов профессор общей патологии Здекауер обратился к конференции академии с просьбой назначить к нему ассистентом лекаря Бородина, отличающегося «особенной любовью к наукам при отличных дарованиях».
В декабре 1855 года Бородину был вручен на акте диплом лекаря «cum eximia laude» — с отличием. У Авдотьи Константиновны были все основания гордиться своим Сашей. Он получил бы золотую медаль, если бы не злополучная история с «законом божиим». В марте следующего года он был назначен ординатором Второго военно-сухопутного госпиталя с прикомандированием к кафедре общей терапии, патологии и клинической диагностики.
Так, почти помимо воли самого Бородина, перед ним открылась третья дорога — не к музыке, не к химии, а к медицине.
Каждое утро ему полагалось являться в госпиталь в свою палату и начинать обход больных. Он прилежно выслушивал и выстукивал, щупал животы, заставлял высовывать языки. Затем следовала скучная канцелярская работа — составление «скорбных листов», как тогда называли историю болезни.
Это и в самом деле были скорбные листы. Врачи во всех подробностях регистрировали страдания больного, но им редко удавалось облегчить эти страдания. Излечение же приходилось большей частью предоставлять самой природе.
Мрачное впечатление производил госпиталь на каждого, кто входил в его двери. По обеим сторонам полутемного коридора, мощенного каменными плитами, открывались двери в огромные палаты, вмещавшие по сто и больше коек. В палатах было сыро, из коридора тянуло вонью.
Писатель Н. В. Успенский, который сам был студентом Медико-хирургической академии, оставил нам описание этого госпиталя в одном из своих рассказов:
«Глушь и скука царствовали в больнице; везде почти был один разговор про доктора и больничный суп, который был обкладываем самыми едкими сарказмами; всякий сердился и по нескольку часов лежал, не раскрывая рта; всякий думал об одном, как бы скорее на вольный воздух. Выписавшийся вон наводил на всех уныние. Больница очень походила на тюрьму с преступниками, денно и нощно занятыми своим освобождением».
Невесело было больным в этой больнице, похожей на тюрьму. Невесело, вероятно, было и молодому врачу. Если бы он знал, как помочь всем этим людям, которые метались в жару, бредили, стонали, жаловались на свои недуги,— он мог бы, пожалуй, пристраститься к своему новому делу. Ведь сердце у него было доброе, отзывчивое. С годами пришел бы и опыт. Где не хватало теоретических знаний, там опытному врачу помогало какое-то чутье, которое выводило на правильный путь. Врач в те времена пробирался нередко ощупью, точно с завязанными глазами. Но Бородину с его научным складом мышления не по душе была такая наука.
Ему не могли не вспоминаться слова Зинина о том, что подлинная медицина должна быть приложением естественных наук к лечению болезней. Значит, надо было и тут начинать сначала, с естественных наук — с физики, химии, физиологии.
Такие мысли и сомнения не давали покоя и другому молодому врачу — Ивану Михайловичу Сеченову, который только что окончил Московский университет. Он вспоминал потом в своих «Автобиографических записках»:
«Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было, а вкус вдумываться в эти загадки, с целью разли-ченья в них существенного от побочного — эту главную приманку истинных любителей медицины,— развиться еще не мог… Всеми этими качествами обладал в высшей степени С. П. Боткин, который уже был профессором. Для него здоровых людей не существовало, и всякий приближавшийся к нему человек интересовал его едва ли не прежде всего как больной. Он присматривался к походке и к движениям лица, прислушивался, я думаю, даже к разговору. Тонкая диагностика была его страстью, и в приобретении способов к ней он упражнялся столько же, как артисты, вроде Ант. Рубинштейна, упражняются в своем искусстве перед концертами. Раз, в начале своей профессорской карьеры, он брал меня оценщиком его умения различать звуки молоточка по плессиметру. Становясь посередине большой комнаты с зажмуренными глазами, он велел обертывать себя вокруг продольной оси несколько раз, чтобы не знать положения, в котором остановился, и затем, стуча молотком по плессиметру, узнавал, обращен ли плессиметр к сплошной стене, стене с окнами, к открытой двери в другую комнату и даже к печке с открытой заслонкой».
Сергей Петрович Боткин был не только большим ученым, но и виртуозом в искусстве врачевания. Бородин был тоже человеком искусства, но другого. И другая наука влекла его к себе.
С первых же дней работы в госпитале ему должно было стать ясно, что он здесь не на месте. Можно представить себе, как тоскливо и неуютно ему было во время ночных дежурств. Хотя стрелки часов в дежурной комнате двигались с положенной им скоростью, казалось, что они еле ползут. Разве так шло время, когда он сидел за фортепьяно или работал в лаборатории? Тогда оно не шло, а летело. Ночь, бывало, уже близилась к рассвету, а спать совсем не хотелось. А здесь, на дежурстве в госпитале, приходилось неустанно бороться с дремотой.
Вот он покидает опостылевший ему кожаный диванчик в дежурной комнате и по пустынным коридорам обходит госпиталь. Огромные палаты, тускло освещенные ночником, кажутся еще больше. Здесь и ночью нет тишины, нет покоя. Над этими ровными рядами кроватей словно реют темные призраки кошмаров, которые заставляют больных стонать и вскрикивать во сне, сбрасывать с себя одеяло. Где-нибудь в углу раздается слабый голос: «Пить!» Этот зов повторяется не раз, пока наконец сонная сиделка не поднимается со своего места и не подает больному кружку с тепловатой, пахнущей жестью водой.
Мрачный возвращается молодой врач в дежурную комнату. И снова начинается убивание времени, прерывающийся зевками разговор со случайным товарищем по дежурству. Госпиталь — военный, и, кроме врача, каждую ночь дежуриг также и офицер.
Один из случайных товарищей по дежурству в госпитале стал впоследствии близким другом Бородина. Незначительная встреча запомнилась на всю жизнь, потому что за ней последовали другие, все более значительные.
«Первая встреча моя с Модестом Петровичем,— рассказывал потом Бородин,— была в 1856 году (кажется, осенью, в сентябре или октябре). Я был свежеиспеченным военным медиком и состоял ординатором при 2-м сухопутном госпитале; Модест Петрович был офицером Преображенского полка, только что вылупившимся из яйца. Первая встреча наша была в госпитале, в дежурной комнате. Я был дежурным врачом, он — дежурным офицером. Комната была общая; скучно было на дежурстве обоим. Экспансивны мы были оба; понятно, что мы разговорились и очень скоро сошлись.
Вечером того же дня мы были оба приглашены на вечер к главному доктору госпиталя — Попову, у которого имелась взрослая дочь, ради которой часто давались вечера, на которые обязательно приглашались дежурные врачи и офицеры. Это была любезность главного доктора.
Мусоргский был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волоса приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические; разговор такой же, немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренный. Вежливость и благовоспитанность — необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепианами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и пр. отрывки из Travatore, Traviata*
и т. д., и кругом его жужжали хором: «charmant», «delicieux»*
и пр.».
Как обманчиво бывает иногда первое впечатление о человеке! Судьба свела двух юношей, которым предстояло со временем рука об руку бороться за великое дело создания новой русской музыки. Но они не сразу узнали друг друга. Для Бородина Мусоргский был только гвардейским «офицериком», для Мусоргского Бородин был только молодым военным врачом. И все-таки их что-то потянуло друг к другу, у них нашлись темы для интересного разговора, хотя настоящая дружба была еще впереди.
Но не все ночи на дежурстве проходили так безмятежно.
Как-то раз в госпиталь привезли совсем не таких больных, как обычно. Это были не офицеры и не солдаты, а крепостные крестьяне. Их было шесть человек.
В страшном виде их привезли. Кожа на окровавленных спинах болталась лоскутьями. У двоих виднелись даже кости. Мы не знаем, какая причина заболевания была проставлена в «скорбном листе». Но истинная причина была в том, что этих шесть человек прогнали сквозь строй.
За что же так беспощадно расправились с этими людьми?
Их помещик много лет жестоко обращался с ними и с другими крестьянами. Они долго терпели, так же как терпели их отцы и деды. За малейшую провинность крепостных пороли на конюшне. А если кто осмеливался перечить, тем «брили лбы» — отдавали в солдаты.
И вот пришло время, когда крестьянам невмоготу стало больше терпеть. Нашлось шесть смельчаков, которые решили проучить своего мучителя. Они заманили его на конюшню и поступили с ним так, как он много раз приказывал поступать с ними: высекли его кнутом. Высечь помещика, да еще-полковника,— это значило совершить неслыханное преступление. Это было даже больше, чем преступление, это был бунт!
Крестьян судили и приговорили, чтобы другим не было повадно, к наказанию шпицрутенами. Чтобы понять, что это было за наказание, надо прочесть рассказ офицера того времени о том, как прогоняли сквозь строй осужденного военным судом солдата.
«Выстраивали в два ряда тысячу солдат, вооруженных палками, толщиной в мизинец (они сохранили свое немецкое название — шпицрутены). Осужденного проволакивали сквозь строй три, четыре, пять и семь раз, причем каждый солдат отпускал каждый раз по удару. Унтер-офицеры следили за тем, чтобы солдаты били изо всех сил. После одной или двух тысяч палок харкающую кровью жертву уносили в госпиталь, где ее лечили только для того, чтоб наказание могло быть доведено до конца, как только солдат немного оправится. Если он умирал под палками, окончание приговора производилось над трупом».
Такому истязанию были подвергнуты и те крепостные, которых привезли во Второй военно-сухопутный госпиталь.
И вот результат: тела, просеченные до костей.
Каково было впечатлительному, нервному Бородину видеть это! А ему приходилось не только видеть эти окровавленные спины, но и вытаскивать из них занозы. Ведь удары были так сильны, что прутья раскалывались и их обломки оставались в обнаженном мясе.
Бородину было нестерпимо жалко этих несчастных. Все его существо восставало против чудовищной расправы, которая именовалась правосудием.
По словам его брата, с Бородиным «три раза делался обморок при виде болтающихся клочьями лоскутов кожи».
Источник: