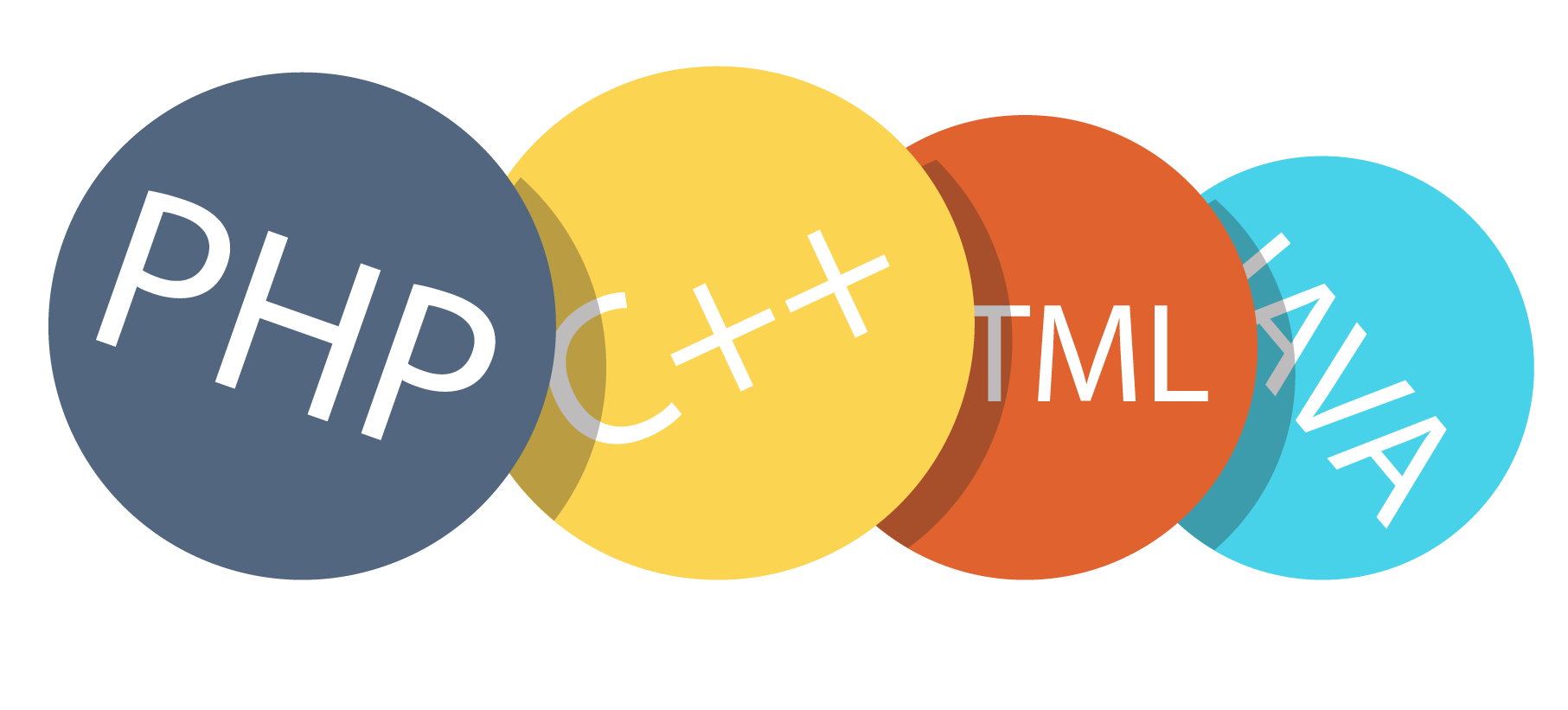А между тем время шло, приближалась весна. Бородин писал «Сергеевне», как он в шутку называл Екатерину Сергеевну (это было одно из первых ее шутливых прозваний, потом их появилось множество):
«Несмотря на всю пакость, совершающуюся во дворе: слякоть, дождь, ветер, я все-таки с удовольствием слежу за тем, как снегу становится все меньше и меньше, грязи все больше и больше, ухабы глубже и чаще, Нева синее, студенты на лекциях малочисленнее — время, значит, приспичило к экзаменам готовиться. На следующей неделе оканчиваю курс свой: в субботу последняя лекция. При всем том — странная штука — меня несколько тревожит: что бы ты думала? — вся процедура свадебная. Ужасно хочется, чтобы именно этот период прошел как можно скорее; как ни говори, а во всем этом есть что-то пошленькое, что-то натянутое. И вообще быть женихом как-то глупо, неловко, особенно перед свадьбою. Мне нисколько не кажется, например, странным, что ты будешь моей женой, что мы будем жить совсем вдвоем. Все это как-то очень естественно… Следовательно, положение «жениха» скучно вовсе не потому, что оно нарушает обычный порядок, к которому я привык…»
Наконец пришли и прошли пасхальные каникулы, которых они оба с таким нетерпением ждали. В апреле Екатерина Сергеевна приехала в Петербург, и они скромно отпраздновали свою свадьбу.
А осенью произошло и другое долгожданное событие. Как ни тянули подрядчики, как ни изводили они Зинина и Бородина постоянными проволочками и уверениями, что лаборатория будет готова «через месяц, через два месяца, через два с половиной»,— новое здание на набережной Невы было наконец закончено, и Естественно-исторический институт торжественно открыт.
Молодая чета перебралась на новую квартиру. Сколько тут было приятных хлопот и забот об устройстве на новоселье!
Ученик Бородина Доброславин рассказывает: «Новая лаборатория, на углу Александровского моста, открытая в 1863 году, поступила под ведение Бородина… Сам он, только женившись на Кат. Серг. Протопоповой (в апреле 1863 г.), переехал в новое здание, первый подъезд с Невы, и прожил тут до самой своей смерти. Лаборатория помещалась в одном коридоре с его квартирой, и Бородин работал там без устали вместе со студентами, чуть не целые дни напролет. Но во время своих работ Бородин всегда сохранял свое свежее и благодушное расположение духа в отношении к ученикам и соработникам своим и всегда готов был прерывать всякую свою собственную работу, без нетерпения, без раздражения, чтобы отвечать на предлагаемые вопросы. Занимающиеся в лаборатории чувствовали себя точно в семейном кружке. Но он не забывал и музыки. Работая, он почти всегда что-то про себя мурлыкал, охотно говорил и спорил с работавшими о музыкальных новостях, направлениях, технике музыкальных произведений, и, наконец, мы часто слышали, когда он бывал у себя в квартире, как по лабораторному коридору неслись стройные звуки профессорского фортепьяно. Благодушие и доброжелательство Бородина поражали всех: каждый мог идти к нему со своими идеями, вопросами, соображениями, не боясь отказа, высокомерного приема, пренебрежения. Очень редкие вспышки раздражения вызывались у Бородина разве только небрежным или неряшливым отношением занимающихся в лаборатории к делу. «Ах, батенька,— слышалось тогда,— что вы делаете! Ведь этак вы перепортите все инструменты в шкафах! Разве можно здесь, в чистой лаборатории, напускать всякой дряни в воздух! Идите в черную». Близкое, задушевное отношение Бородина к ученикам не ограничивалось только лабораторией. Почти все работавшие там были приняты в его семью как самые близкие знакомые, часто завтракали, обедали и даже ужинали у него, когда оставались долго в лаборатории. Квартира Бородина была, можно сказать, постоянно настежь для всей молодежи. По выходе учеников его из академии он постоянно хлопотал об участи каждого, употреблял все усилия, чтоб доставить ему помощь. Часто про него говаривали, что нельзя было встретить его в обществе без того, чтоб он о ком-либо не просил, кого-либо не устраивал…»
Судя по этому рассказу, даже студенты не могли не заметить, что их профессор не только химик, но и страстный музыкант.
И все-таки химия была на первом месте.
Для нее он не жалел ни сил, ни времени.
«Страшно устал, ибо, несмотря на нездоровье, с восьми часов утра работал в лаборатории. В силу этого решительно не в состоянии таскать ноги и через час ложусь спать…»
«Отправился в черную лабораторию и провонял валерианой до костей…»
«Все утро прокоптел в черной лаборатории, собрал все относящееся до валерианового альдегида и до осени покончил со всякой вонью…»
Только изредка и мимоходом говорится в письмах Бородина о том, что так сильно его занимало.
Но перед нами и его статьи. Читая их, мы словно своими глазами видим Бородина в лаборатории, мы угадываем ход его мыслей, мы вместе с ним странствуем по извилистым и сложным дорогам, которые привели его к большим открытиям.
Вот работа, напечатанная в бюллетене Академии наук за 1864 год. Это начало многолетнего труда, посвященного альдегидам.
Еще в 1856 году Зинин писал: «При современном состоянии наших знаний об альдегидах имеет значение каждый новый опыт с ними…»
Очень может быть, что в беседах Зинина с самым близким его учеником не раз заходила речь об этих странных и в то время еще не разгаданных соединениях, обладающих большой способностью к химическим реакциям.
Казалось, от альдегидов можно было многого ждать для органической химии, для той химии, которая все больше и больше становилась наукой созидания.
Но чтобы идти от них к другим, еще неизвестным соединениям, надо было сначала понять природу альдегидов. А природа их была в то время еще совершенно неясна.
Название «альдегид» получилось от сокращения слова «alcohol dehy drogenatum», что значит «спирт без водорода». И в самом деле, достаточно отнять от спирта окислением два атома водорода, чтобы он превратился в альдегид, и, наоборот, присоединив к альдегиду водород, можно снова получить из него спирт, как это в 1861 году удалось сделать рано погибшему химику Олевинскому.
Но если альдегиды — это ближайшие родичи спиртов, то не будут ли они вести себя так, как подобает спиртам?
В спиртах, например, можно заместить атом водорода натрием и получить кристаллическое вещество — алкоголят натрия. А нельзя ли таким же образом получить «альдегидат натрия»?
На этот вопрос не было ясного ответа.
В учебнике органической химии, который к этому времени уже успел, несмотря на свою молодость, написать Менделеев, было сказано:
«Продукты прямого замещения металлом водорода в альдегидах мало исследованы…», «Было бы очень интересно проследить реакции металлических производных альдегидов» которые вовсе почти неизвестны».
Вот в этот-то малоисследованный уголок химии и направил свой путь Бородин.
Летом 1863 года он писал Бутлерову.
«Делал кое-какие пустячки с альдегидами, получил кое-какие телишки, которыми, впрочем, заняться толково не мог, частью по недостатку времени, частью по невозможности чисто работать в старой нашей лаборатории».
Потом, когда новая лаборатория была уже готова, работа пошла быстрее и лучше. В марте 1864 года Бородин уже писал другому своему товарищу — Алексееву:
«Работаю теперь шибко. Про работу теперь ничего не пишу, потому что скоро напечатаю».
А в мае Зинин уже сделал в Академии наук сообщение о работе Бородина, посвященной исследованию действия натрия на валеральдегид.
Что же, удалось ли молодому химику найти то, что он искал? Нет, дело тут обстояло не так просто.
«Моей первой заботой,— пишет Бородин в своей статье,— было получить действием натрия на валеральдегид вещество с постоянным содержанием натрия. Но это мне не удалось».
Бородин не смог решить задачу, которую он перед собой поставил. Но в этой неудаче уже была заложена возможность большой удачи. Надо было только не опускать руки, не отступать.
Путь науки не так прямолинеен, как кажется. Очень часто исследователь находит совсем не то, что ищет.
Но находит только тот, кто ищет. Так Колумб, искавший морской путь в Индию, нашел Америку.
Бородин в своей статье подробно рассказывает о всех перипетиях своего кропотливого исследования. Нужно прочеса этот рассказ с начала до конца, чтобы понять, что такое труд химика, как много нужно для него времени и терпения.
Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, прежде чем стали намечаться первые результаты.
Начать с того, что Бородину пришлось самому получить исходный материал — валериановый альдегид. Для этого он должен был взять амиловый спирт — тот самый амиловый спирт, который придает плохо очищенной водке такой неприятный запах сивухи. Смешав амиловый спирт с серной кислотой и водой, надо было терпеливо по каплям вливать эту смесь в раствор окисляющего вещества — двухромовокислого калия. Двухромовокислый калий окислял спирт, и спирт превращался в альдегид.
Потом альдегид надо было перегнать, да притом так, чтобы он не приходил в соприкосновение с воздухом: ведь альдегид— капризное вещество, на воздухе он окисляется в кислоту. Перегонку, значит, надо было вести не в воздухе, а в струе водорода.
И вот наконец отогнана маслянистая пахучая жидкость — валериановый альдегид. Но это даже еще и не начало работы, это только подготовка к ней.
Начало работы. Какая это незабываемая минута! Она может сравниться только с той, когда корабль, уходящий в дальнее плавание, снимается с якоря, для того чтобы на много месяцев пуститься в открытое море. Кто знает, какие бури и беды ждут его в пути!..
Но отплытие корабля отмечается, как праздник. О торжественности минуты говорят и флаги и пушечный салют.
А здесь, в лаборатории, все так буднично с виду. Только со стола убраны лишние, не относящиеся к делу вещи и приготовлено то, что должно быть под рукой. Чисто вымыты колбы, стаканы, пробирки. На полках над столом выстроились в ряд банки с реактивами.
И все-таки настроение праздничное. Работа, которая еще только начинается, так же пленительна, как интересная, еще не прочитанная книга: скорее хочется раскрыть и начать читать.
Такие чувства испытывал, должно быть, и Бородин, когда перед ним на столе стояла колба с валериановым альдегидом и он бросал в нее натрий кусочек за кусочком.
Начало было многообещающее. Натрий полностью растворялся в жидкости, которая бурлила от пузырьков водорода. Чем дальше, тем все более бурной делалась реакция. Под колбой не было огня, и все-таки колба стала горячей. Пришлось охлаждать ее водой.
Но вот реакция пошла спокойнее. Жидкость в колбе стала гуще и пожелтела. Чтобы реакция продолжалась, колбу нужно было теперь уже не охлаждать, а нагревать.
Реакция уже больше не идет. Жидкость в колбе обратилась в желтую, мягкую, некристаллическую массу. Бородин встряхивает колбу, внимательно всматривается в нее, как бы стараясь проникнуть взором в гущу молекул. Есть ли там, в этой желтой массе тот «альдегидат натрия», который он искал?
Чтобы это решить, он приливает в колбу воды. Вода должна разложить «альдегидат» и дать снова альдегид. Ведь так всегда происходит с алкоголятами: они разлагаются от воды.
С жадным вниманием следит Бородин за тем, что происходит с массой в колбе. Масса растворяется, но раствор получается не прозрачный, а мутный, как молоко. При стоянии он начинает делиться на два слоя: желтый, маслянистый, и бесцветный, водный.
Бородин переливает жидкость в стеклянную делительную воронку с краном. Теперь — хочешь не хочешь — надо прервать работу: жидкость должна отстояться и расслоиться, а на это нужно время.
На другой день Бородин спешит рано утром в лабораторию. Еще издали он видит, что жидкость в делительной воронке образовала за ночь два слоя, с четкой границей между ними. Глазу химика всегда приятна такая отчетливость,— ведь бывают жидкости, которые по многу дней не расслаиваются, между ними все время остается какой-то мутный промежуточный слой.
Бородин подставляет под воронку колбу, осторожно открывает стеклянный кран. Бесцветная водная струя бежит через кран в колбу. Граница между слоями в воронке опускается все ниже. Бородин внимательно следит за ней и, поворачивая кран, замедляет ее опускание. Вот уже последние капли водного слоя упали в колбу. В просвет крана вошла желтая маслянистая жидкость. Надо скорее закрыть кран, чтобы начисто отделить оба слоя.
Бородин подносит колбу к носу. Нос — один из самых необходимых приборов химика! Жидкость в колбе пахнет сивухой — амиловым спиртом.
Бородин берет красную лакмусовую бумажку, опускает ее в жидкость. Бумажка синеет: реакция щелочная.
Начинается длинный ряд операций, который должен выяснить, что же это за жидкость, что именно перешло в водный раствор. Щелочь надо нейтрализовать, амиловый спирг отмыть эфиром, из остатка выпарить воду. На дне фарфоровой чашки остается какая-то соль. Бородин разлагает ее соляной кислотой и получает маслянистую жидкость. По запаху — это валериановая кислота. Бородин убеждается в этом, проделав анализ.
Но откуда взялась валериановая кислота? Неужели он все-таки недоглядел и капризный валериановый альдегид умудрился соединиться с кислородом воздуха? Если так, то тогда весь опыт насмарку.
Но Бородин не спешит делать такие мрачные выводы. Он принимает решение повторить весь долгий опыт в новых условиях: так, чтобы над альдегидом в колбе был не воздух, а водород. Для этого нужно собрать сложный прибор и потерять еще несколько дней. Но что ж поделаешь? Когда занимаешься химией, не приходится жалеть о потерянном времени.
Опыт повторен при других условиях, но результат получился тот же. По крайней мере треть альдегида окислилась в кислоту. Откуда же взялся кислород? Он не пришел извне, а выделился в самой реакции.
Что же это за реакция произошла в колбе?
На это ответа еще нет. Может быть, дело станет яснее, когда будет исследована та маслянистая жидкость, которая образовала верхний слой в делительной воронке.
Бородин промывает эту жидкость водой, высушивает хлористым кальцием. В ход идут опять разведчики — нос и язык. Запах — ароматный, вкус — жгучий. Бородин переливает жидкость в колбу с отводной трубкой, вставляет пробку с термометром, присоединяет к отводной трубке холодильник, ставит под колбу горелку.
Медленно идет вверх столбик ртути в термометре. В горлышке колбы клубится еле заметное облачко. И вот на конце отводной трубки начинает собираться капля. Она падает в холодильник. За ней другая, третья. Столбик ртути достиг 132 градусов и остановился на этой высоте. В приемной колбе собирается какая-то бесцветная жидкость. По запаху — это амиловый спирт.
Бородин задумывается: откуда мог взяться здесь амиловый спирт? При реакции выделялся водород, он-то, видно, и превратил альдегид в спирт.
Так мысль и руки химика работают все время сообща.
Капли перестали падать в колбу. Температура снова идет вверх. Бородин убирает колбу с амиловым спиртом, подставляет под конец холодильника другую. Столбик ртути снова останавливается. Эта остановка хороший знак: на сцену выходит новое вещество, со своей особенной индивидуальностью. Оно кипит при 203 градусах. У него приятный аромаг-ный запах и жгучий вкус. Это маслянистая жидкость, которая не растворяется в воде, а растворяется в спирту и эфире. Что же это за вещество? Только химическая формула может это сказать. Бородин садится около весов, открывает стеклянную крышку футляра.
Сколько раз химику приходится взвешивать на аналитических весах! Но он каждый раз снова испытывает удовольствие, когда достает пинцетом из ящичка с разновесом хорошенькие золоченые гирьки или передвигает над коромыслом весов «гусара» из тонкой платиновой проволочки. Влево и вправо качается стрелка весов, чутко отзываясь на малейшую нагрузку. Пылинка, кажущаяся невесомой, имеет для нее вес. Дыхание человека для этого чуткого прибора все равно что буря. Приходится закрывать стеклянную дверцу, чтобы ни малейшее дуновение не касалось весов.
Бородин отвешивает небольшую порцию неизвестной жидкости и помещает навеску в печь для элементарного анализа. Чтобы выяснить состав органического вещества, надо, как это ни странно, его сжечь. Определив, много ли получается при сжигании углекислоты и воды, легко узнать, сколько в веществе было углерода и водорода.
Анализ закончен. Бородин берется за вычисления. Волнующая минута! К ней вело столько дней и недель кропотливого труда. И вот сейчас эти цифры под быстро бегущим карандашом сложатся в какой-то ответ природы на вопрос, который задал ей ученый.
Этот ответ может оказаться темным и невразумительным, если опыт не удался. Но он может быть и ослепительно отчетливым, если все прошло хорошо.
Цифры дают на этот раз четкую и ясную формулу:
С10Н22О
Что это? Новое вещество? Среди известных веществ нет такого, которое отвечало бы этой формуле. Но какова его природа? Надо заставить его это сказать.
Новое вещество не меняет цвета лакмусовой бумаги. По составу оно могло бы быть спиртом, но это только догадка, ее надо проверить. Полученное вещество необходимо подвергнуть долгому и строгому допросу.
Дни идут за днями в напряженной работе. И все-таки это только увертюра.
Химия, как Шехерезада, каждый вечер обрывает свой рассказ на самом интересном месте как бы для того, чтобы не выпустить из своих рук химика, который принадлежит не только ей одной.
Ведь рядом с лабораторией — стоило только пройти коридор— лежали на конторке ноты, начатая симфония. В часы самого напряженного труда до лаборатории доносились звуки рояля. Это играла Екатерина Сергеевна, словно напоминая химику, что он не только химик.
Симфония и исследование альдегидов! Что могло быть общего между ними! Но и в музыке и в химии Бородин оставался все тем же новатором, прокладывающим путь в еще не исследованные, не освоенные области. Он знал вдохновение, знал яркие вспышки интуиции и за роялем, и за лабораторным столом. Но и в минуты вдохновения он умел сдерживать порывы фантазии и проверять ее неумолимо строгой логикой. От каждого музыкального образа он требовал такой же четкости и чистоты, какой он добивался, создавая новое химическое соединение.
Балакирев заботливо следил за ростом бородинской симфонии, радуясь каждой удаче, сетуя на каждое промедление, помогая Бородину и советом, и метким критическим замечанием.
«Наши занятия с Бородиным,— писал Балакирев Стасову,— заключались в приятельских беседах и происходили не только за фортепьяно, но и за чайным столом. Бородин (как и вся наша тогдашняя компания) играл новое свое сочинение, а я делал свои замечания касательно формы, оркестровки и проч., и не только я, но и все остальные члены нашей компании принимали участие в этих суждениях. Таким образом сообща вырабатывалось критически все направление нашей композиторской деятельности. Могу прибавить, что и жена Бородина, Екатерина Сергеевна, принимала участие в наших беседах. Она была прекрасная музыкантша и весьма порядочная пианистка. Ее симпатичная личность вносила особенную сердечность в наши беседы, воспоминание о которых будет для меня всегда драгоценным…»
Римский-Корсаков пишет, что Бородин, работая над симфонией, «часто приносил Балакиреву куски партитуры для просмотра».
Симфония Бородина, так же как и произведения его товарищей, создавалась не в одиночестве, а при участии всей артели, в которой Балакирев был старшим.
Здесь, на музыкальных собраниях кружка, росли не только произведения, росли и сами композиторы.
Было бы неправильно думать, что произведение искусства пишется только тогда, когда оно пишется. Чтобы создать музыку, нужно жить в мире музыки, нужно не только писать свое, но и слушать чужое.
Бесплатная музыкальная школа, где под управлением Балакирева исполнялись Глинка и Даргомыжский, Лист и Берлиоз, была школой и для Бородина. И такой же школой были встречи в домашней обстановке, где каждый из товарищей знакомил остальных с тем новым, что он сделал. А ведь годы эти были урожайными: Римский-Корсаков работал над своей Первой симфонией, писал увертюру на русские темы и фантазию на сербские темы. Балакирев, еще в 1861 году закончивший музыку к «Королю Лиру», в эти годы создал симфонию «Русь» и увертюру на чешские темы.
Слушая других, Бородин находил себя — свой путь. Вот что рассказывает об этом Римский-Корсаков:
«По переезде моем в Петербург в первое время его (Бородина) там не было, он не вернулся еще после лета. Балакирев наигрывал мне в отрывках первую часть его Es-dur’noft симфонии, которая скорее меня удивила, чем понравилась мне. Бородин вскоре приехал; я познакомился с ним, и с этих пор началась наша дружба, хотя он был старше меня лет на десять. Я познакомился с его женою — Екатериною Сергеевной. Бородин уж был тогда профессором химии в Медицинской академии и жил у Литейного моста в здании академии, оставаясь и впоследствии до самой смерти в одной и той же квартире. Бородину понравилась моя симфония, которую сыграли ему в 4 руки Балакирев и Мусоргский. У него же первая часть симфонии Es-dur не была докончена, а для остальных частей уже имелся материал, сочиненный им летом за границей. Я был в восхищении от этих отрывков, уразумев также и первую часть, только удивившую меня при первом знакомстве. Я стал часто бывать у Бородина, оставаясь нередко и ночевать. Мы много толковали с ним о музыке; он мне играл свои проекты и показывал симфонии. Он был более меня сведущ в практической части оркестровки, ибо играл на виолончели, гобое и флейте. Бородин был в высшей степени душевный и образованный человек, приятный и своеобразно остроумный собеседник. Приходя к нему, я часто заставал его работающим в лаборатории, которая помещалась рядом с его квартирой. Когда он сидел над колбами, наполненными каким-нибудь бесцветным газом, перегоняя его посредством трубки из одного сосуда в другой,— я говорил ему, что он переливает из пустого в порожнее. Докончив работу, он уходил со мной к себе на квартиру, и мы принимались за музыкальные действия или беседы, среди которых он вскакивал, бегал снова в лабораторию, чтобы посмотреть, не перегорело или не перекипятилось ли там что-либо, оглашая при этом коридор какими-нибудь невероятными секвенциями из последовательностей нон или септим, затем возвращался, и мы продолжали начатую музыку или прерванный разговор. Екатерина Сергеевна была милая, образованная женщина, прекрасная пианистка, боготворившая талант своего мужа».
Римский-Корсаков называл шутя «переливанием из пустого в порожнее» то, чем Бородин занимался в химической лаборатории. А между тем это было то самое исследование, — которое привело Бородина к одному из важнейших его открытий в химии.
Работа над уплотнением валерианового альдегида и работа над Первой симфонией шли параллельно. Но гораздо легче уяснить себе творческий метод Бородина-химика, чем творческий метод Бородина-композитора.
Читая научные статьи Бородина, мы легко можем проследить ход его мыслей, пройти вместе с ним по всем этапам его исследовательской работы. Но как проникнуть в его музыкальную лабораторию?
Источник: