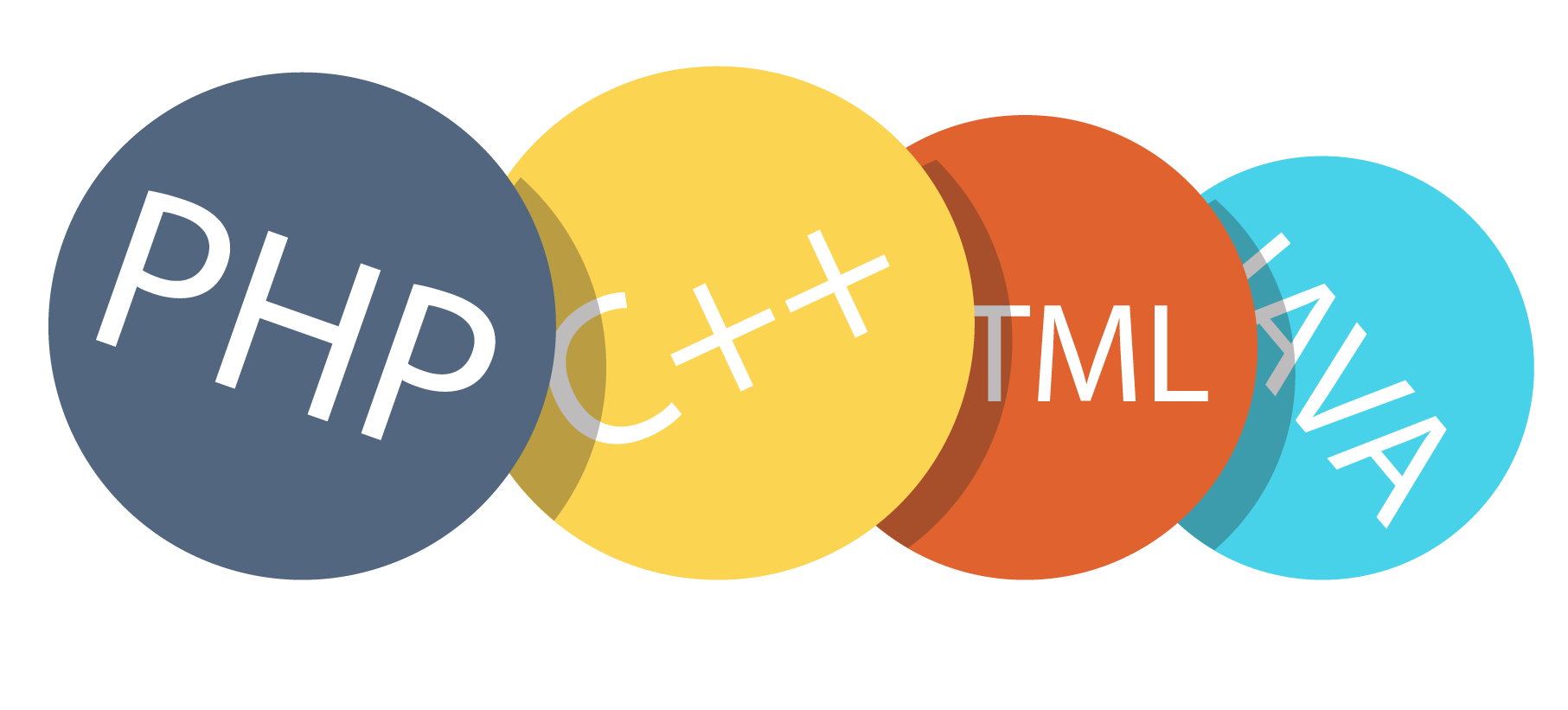Место действия — Петербург гоголевских времен, с будочниками у полосатых будок, с масляными фонарями, с разноголосыми криками разносчиков во дворах, с хриплым пением шарманки.
Во двор дома номер 13/15 по Глазовской улице входит старик шарманщик. Он снимает с плеча потертый ремень, на котором носит свой видавший виды инструмент. Маленькая девочка, его постоянная спутница, может быть внучка, поднимает над головой бубен.
При первых же звуках шарманки со всех сторон сбегаются дети, словно стадо на зов пастуха. Разинув рты, смотрят они на таинственный ящик, из которого старик каким-то чудом извлекает настоящую музыку, то веселую, плясовую, то такую жалобную, что хоть плачь.
Дети в восторге, но шарманщику нет до них дела. Ведь это все бесплатные слушатели: что с них возьмешь. Задрав голову, старик оглядывает окна. Оттуда летят завернутые в бумажку медяки и падают около шарманки на булыжник, покрытый грязью.
Среди маленьких слушателей нам легко представить себе и Сашу Бородина, который живет в этом доме.
Пусть старенькая шарманка похожа на инвалида с деревяшкой вместо ноги, пусть ее хриплое пение то и дело прерывается чем-то вроде кашля,— чуткое ухо маленького Саши ухитряется различить в ее дребезжании и скрипении, в мерных ударах бубна все оттенки мелодии и ритма.
Шарманщик давно уже ушел, но Саша о нем не забыл. К великому удовольствию домашних, он «представляет» шарманщика.
Но музыка не всегда появлялась перед Сашей в таком убогом обличье. Она манила его к себе звонкими голосами сверкающих медных труб, которым так весело и благодушно вторили мощные удары турецкого барабана.
Самый тусклый день начинал казаться солнечным, когда обыденный уличный шум покрывали звуки победного марша.
Саша тянул за руку свою бонну Луизу, потому что его самого тянула к себе музыка, доносившаяся с Семеновского плаца, где играл оркестр.
Бородин не оставил нам воспоминаний о своем первом знакомстве с музыкой. Мы с трудом находим в записках его родных скупые упоминания о том, что он «любил представлять шарманщика», что восьми лет от роду он в сопровождении бонны Луизы непременно отправлялся слушать музыку, когда поблизости от их дома — на Семеновском плацу — играл военный оркестр.
О чем думал он, что чувствовал в такие минуты?..
У его современника, И. Е. Репина, мы находим несколько строк, которые так хорошо выражают чувства одаренного ребенка, впервые услышавшего оркестр, что здесь стоит привести этот отрывок:
«Наша улица вдруг вся преобразилась: и хата, и лес за Донцом, и все люди, и мальчишки, бежавшие быстро на нашу улицу, все как будто осветилось ярче. Далеко, в конце улицы, сквозь пыль, поднятую высоко, заблестели медные трубы полковых трубачей на белых лошадях; в одну ленту колыхались солдаты над лошадьми, а над ними сверху трепетали, как птички, над целым полком в воздухе султанчики пик. Все слышнее доносился лязг сабель, храп и особенно яркое ржание коней. Все ближе и яснее блестели сбруи и запенившиеся рогатые удила сквозь пыль снизу.
И вдруг все это как будто разом подпрыгнуло вверх всей улицы и покатилось по всему небу: грянули звучно трубы!
Радостно понеслись эти звуки по Донцу, за Малиновский лес, и отразились во всех садах Пристена. Веселье понеслось широкою волною, и даже за Гридину-гору — до города; хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать, безумно катаяоь по дороге. О музыка! Она всегда проникала меня до костей».
Будущего художника поразила не только музыка, но и самый облик трубачей на белых конях. Когда читаешь эти строчки, кажется, как будто видишь перед собой еще не найденную репинскую картину.
Но Бородину предстояло стать не художником, а композитором— творцом необычайных по яркости произведений для оркестра. Эта любовь к оркестру, с его безграничным разнообразием красок и оттенков, пробудилась в Бородине с детских лет.
Шарманка во дворе, военный оркестр на плацу, фортепиано, под звуки которого танцевали, когда в доме собирались гости, гитара, на которой играла мать Бородина Авдотья Константиновна,— вот что чаще всего приходилось слышать будущему композитору в дни его детства.
В те времена гитара — «подруга семиструнная», как называл ее поэт Аполлон Григорьев,— была еще в почете. Ее стали считать «плебейским» инструментом позже, во второй половине века. Под гитару пели романсы Варламова и Гурилева, близкие к тем песням, которые распевал народ. Недаром романс Варламова на слова Цыганова «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» принимали за подлинную народную песню.
Так в звуках «чувствительного» романса доходили и до жителей столицы отзвуки народных напевов.
Бородин родился не в деревенской усадьбе, среди полей и лесов, а в городе. Ему не приходилось слышать в юношеские годы крестьянских девушек, с песнями ведущих хоровод, или слепцов, распевающих на сельской ярмарке духовные стихи. И все же до него и тогда доходили русские песни в их первоначальном звучании. Между Петербургом и всей огромной страной шел постоянный обмен: романсы, сочиненные в городе, пелись в деревне, а деревенские песни добирались до города вместе с ямщиками почтовых троек, с артелями плотников, с обозами, которые везли припасы из поместий. Деревенскую песню можно было услышать в девичьей дворянского дома. Песни распевала прачка, полощущая белье, их напевала вполголоса портниха, склонившаяся над шитьем при неровном свете оплывающей сальной свечи. Случалось, что композиторы записывали народные напевы со слов деревенских девушек, которые, поступая «в услужение», приносили с собой не только бедный узелок с пожитками, но и невидимый, драгоценный клад — прекрасные песни своих родных мест. Об этих песнях Герцен говорил, что они для народа «выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы».
Римский-Корсаков рассказывает, что он «записывал песни от прислуги, бывшей родом из дальних от Петербурга губерний». «Однажды (это было у Бородина) я долго бился, сидя до поздней ночи, чтобы записать необыкновенно капризную ритмически, но естественно лившуюся свадебную песню («Звон-колокол») от его прислуги Дуняши Виноградовой, уроженки одной из приволжских губерний».
Где-нибудь в деревне в приволжской губернии можно было слышать только приволжские песни, а в Петербург песни шли отовсюду, через все заставы.
В своей биографии Бородина В. В. Стасов пишет: «Казалось бы, сами обстоятельства жизни влекли к национальному элементу и творчеству Балакирева, Мусоргского и Римского-Корсакова. Все они родились вне Петербурга и объевропеен-ных центров; они родились и провели всю молодость свою в глубине России, в коренной национальной среде, в деревне… С Бородиным дело произошло иначе: он родился в Петербурге и здесь же провел всю свою жизнь. Лишь в зрелых летах случалось ему жить подолгу внутри России, в губерниях Московской, Владимирской, Костромской. И, несмотря на это, национальный элемент составляет самую могучую ноту в творчестве Бородина: в правдивости и глубине русского склада своих высших созданий он не уступает ни Глинке, ни своим товарищам в новой русской музыкальной школе. Каким образом случилось это изумительное превращение,— вот психологическая тайна, которую не объяснит, конечно, никто».
Стасов прав: это действительно тайна. Развитие души художника не так-то легко и просто проследить. И все же мы можем догадываться о тех впечатлениях, которыми питалась эта развивающаяся, растущая душа.
Чиновный сумрачный Петербург, в котором рос Бородин, не был отделен глухой стеной от остальной России. Страна была океаном песен, которые захлестывали и городские улицы.
И нет сомнения, что необычайно одаренный ребенок безотчетно выискивал и отбирал из этого материала то, что ему было нужно. Так растение находит в почве даже самые редкие элементы, если они ему необходимы.
День за днем музыка все больше и больше завоевывала воображение мальчика. Дело началось как будто совсем с небольшого. Не он один любил слушать военную музыку. Не ему одному нравились народные песни. Для большинства этим дело и кончалось, но для Саши это было лишь началом.
Маленькому Саше хотелось знать, как называется каждый инструмент, как на нем играют, какой у него голос.
На плацу он не оставался только слушателем. Несмотря на то что он был еще очень мал и застенчив, он старался поближе подойти к музыкантам, чтобы как следует рассмотреть инструменты. Саша не отрывая глаз следил за пальцами, перебегающими по флейте, за рукой, входящей в раструб валторны, за палками, бьющими по коже барабана.
«А дома,— рассказывает Е. С. Бородина,— садился за фортепьяно и по слуху наигрывал, что слышал. Видя такую его любовь и способность к музыке, мать устроила для него уроки на флейте. Солдатик из военного оркестра Семеновскчэго полка приходил учить его по полтиннику за урок».
Есть пословица: «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Так случилось и с Сашей. Он уже не только подбирал по слуху — он пробовал и сам сочинять.
Список произведений Бородина начинается с польки, которую он написал, когда ему было всего только девять лет. Он назвал ее «Полька Элен», в честь молодой девушки, которая снисходила до того, что танцевала с ним, хотя была гораздо старше его и выше ростом.
В те времена полька была у нас еще новинкой и пользовалась большим успехом. В этом чешском народном танце было гораздо больше огня и веселья, чем в каком-нибудь чопорном менуэте или другом придворном танце.
Бородин записал свою польку, когда ему уже было лет тринадцать–четырнадцать. В ней чувствуется не только знакомство с классическими западноевропейскими образцами, но и влияние глинкинских восточных мелодий. Сквозь детское шаловливое веселье пробивается мягкая, лирическая грусть.
В этой грациозной вещице уже видна та четкость и ясность формы, которая отличает все произведения Бородина.
Полька дошла до нас. Она теперь издана, и ее играют дети в наших музыкальных школах. А сколько вещей, сочиненных маленьким Бородиным, не было записано и пропало, не оставив следа?
Должно быть, их было немало.
По своей художественной натуре Бородин был импровизатором. И он не всегда записывал то, что сочинял.
В годы детства он, вероятно, еще реже заносил на бумагу свои импровизации.
Такой музыкальный ребенок, да еще с необыкновенно сильным воображением, не мог не фантазировать и не импровизировать, как только удавалось улучить подходящую для этого минуту.
Способность фантазировать была у него поразительная.
Вместе с Сашей воспитывалась его маленькая двоюродная сестра — Мари Готовцева. Они были очень дружны и играли вместе. Мари тоже была не прочь пофантазировать, но за Сашей угнаться было нелегко.
Е. С. Бородина рассказывает, что «Саша любил предаваться мечтаниям и улетать куда-то в сказочный мир. Толчком к таким путешествиям в тридесятое царство было все: и купидоны, намалеванные на потолке, и излюбленный уголок на печке. Очень любил Саша этот уголок. Оттуда ему виднелось какое-то окошечко, и через него часть сада, именно с печки представлявшегося — ему чем-то волшебным. Саша часто влезал на печку и видел там необыкновенные вещи. Намечтавшись вдоволь, он слезал к своей Мари и делился с ней впечатлениями. «У меня,— говорил он,— большой дворец, и там я живу. Дворец высокий-высокий — до неба». Мари не отставала: у нее оказывался дворец еще выше — «до неба, да еще с эту комнату…»
По играм детей, по их любимым развлечениям уже можно нередко судить и об их склонностях.
Маленький Саша любил вместе с Мари «устраивать театр». В этом театре он был не только актером, но и режиссером и драматургом. Публика была немногочисленная, но очень доброжелательная: Авдотья Константиновна и бонна Луиза. «Прекрасная Астраханка» и другие пьесы шли с неизменным успехом.
Так автор «Князя Игоря» еще в детские годы проявил склонность не только к музыке, но и к театру и даже пробовал сам сочинять пьесы.
Конечно, трудно найти ребенка, который никогда не воображал себя актером или героем прочитанных сказок. Игра воображения— непременная спутница всякой игры.
Но только настоящий художник до седых волос сохраняет эту детскую способность создавать сказочные миры и уноситься мыслью в небывалые края.
Римский-Корсаков рассказывает о Бородине, что его фантазии достигали остроты зрительных галлюцинаций: ему, например, стоило только закрыть глаза, чтобы увидеть во всех подробностях восточное шествие.
Эти образы он с удивительной силой умел претворять в звуки. И сейчас, когда мы слушаем такие его вещи, как музыкальная картина «В Средней Азии», мы сами заражаемся способностью видеть недоступное нашим глазам. Словно мираж, возникает перед нами беспредельная пустыня. От тишины звенит в ушах. Но вот из этого звона тишины начинает вырастать русская песня. Это казаки, сопровождающие караван, стараются разогнать тишину и тоску пустыни песней своей родины. Тяжело переваливаясь с боку на бок и погромыхивая поклажей, шагают один за другим верблюды. С русским напевом сплетается восточная мелодия — протяжная песня погонщика верблюдов.
«Молчание пустыни? — писал Горький.— Оно очень красноречиво выражено русским композитором Бородиным».
Бородин никогда не бывал в Средней Азии и все-таки сумел вообразить и изобразить пустыню так, как будто вырос среди песков.
Эта способность мыслить не только зрительными, но и музыкальными образами не могла в нем развиться внезапно. Она должна была расти и крепнуть с детских лет.
Сколько чудесных часов провел маленький Саша за фортепьяно!
Когда ребенок начинает читать, перед ним раскрывается в строчках книг новый, еще не виданный им мир. Ребенку, овладевающему музыкальной грамотой, черные и белые Кружки нот тоже говорят о мире, которого он прежде не знал.
Эти черные и белые кружки, словно бегущие по нотным линейкам, складываются в слова, из слов составляются фразы. Из прихотливого узора значков возникает то волшебная сказка, то мрачная баллада, то веселый, шутливый рассказ. Так же как в книге, здесь есть и разговоры: какие-то голоса спрашивают и отвечают, жалуются, негодуют, спорят и перебивают друг друга.
На первых порах маленький Бородин был одинок на своем пути к чудесному миру музыки. Кругом были слушатели, которые восхищались его способностями, но спутника не было. Такой спутник появился у Бородина, когда ему уже пошел тринадцатый год. Это был его сверстник Миша Щиглев, сын преподавателя Царскосельского лицея.
Миша Щиглев тоже был страстным любителем музыки. Он играл на фортепьяно по слуху лет с пяти. К моменту знакомства с Бородиным он уже брал уроки музыки.
При первой же встрече мальчики вцепились друг другу в волосы и принялись кататься по полу. Но вражда продолжалась недолго. Музыка очень скоро превратила их в друзей.
«Считая себя уже музыкантом,— вспоминал потом Щиглев,— я положительно спасовал перед новым коим гостем, который поразил меня своими необыкновенными музыкальными способностями».
Саше шел тринадцатый год. Уже давно пора было серьезно засесть за учение. Заботы о Сашином будущем не давали покоя Авдотье Константиновне. Она не только горячо любила сына,— она понимала, что он у нее какой-то особенный. Всех кругом поражали его необыкновенные способности, его понятливость, его феноменальная память. Такого мальчика не учить как следует было бы грешно.
Одно было плохо: он был ребенок слабый, худенький. Приходилось вечно дрожать за его здоровье. А тут еще родственники уговаривали Авдотью Константиновну не очень-то учить сына. «У него,— говорили они,— должно быть, чахотка, все равно он недолго проживет».
Авдотья Константиновна и слушать не хотела таких мрачных советчиков. Она верила, что ее Саша будет жить.
С кем ей было посоветоваться? Сама она была женщина малообразованная, но она была твердо убеждена в том, что мальчик должен получить самое лучшее образование. С раннего детства он занимался языками: свободно говорил по-французски и по-немецки. Пора было ему взяться и за другие предметы гимназического курса.
Вот тогда-то и познакомились Саша и его мать с семейством Щиглевых. Роман Петрович Щиглев был опытным педагогом. Лучшего руководителя в сложном деле образования и воспитания Авдотье Константиновне трудно было бы найти.
Мишу Щиглева собирались отдать в Первую гимназию, которая находилась на Ивановской, поблизости от дома Авдотьи Константиновны. Было решено, что он переедет из Царского Села в Петербург — к Саше, чтобы было близко ходить в гимназию, а пока что они будут вместе готовиться по всем предметам.
Программа занятий была тщательно продумана. Отдельно для каждого предмета были приглашены учителя. Ничто не было забыто. Мальчиков учили не только русскому языку, истории, географии, математике, рисованию, черчению, но и иностранным языкам, танцам и музыке.
Учителем музыки был немец Порман. Щиглев вспоминал впоследствии, что человек он был «очень методический и терпеливый, но преподаватель немудрый».
Вероятно, преподаватель Порман был вполне на своем месте, когда имел дело с обыкновенными учениками. Но не так-то легко учить музыке такого мальчика, как Саша Бородин! Да и его товарищ тоже отличался незаурядными способностями. Щиглев вспоминал потом:
«Мы оба бойко играли и свободно читали ноты, и на первый же год переиграли в четыре руки и знали чуть не наизусть все симфонии Бетховена и Гайдна, но в особенности заигрывались Мендельсоном».
Видно, еще до начала систематических занятий с учителем и Саша Бородин и Миша Щиглев уже успели самостоятельно переиграть немало вещей, если в тринадцать лет они уже знали наизусть симфонии Бетховена и Гайдна.
Вот в эти-то годы Бородин закладывал прочный фундамент своего музыкального образования. Он начал с классиков — с Гайдна, Бетховена — и к новой музыке пришел, уже хорошо зная старую.
Часто бывает, что, перечитывая книгу, которую мы любили в детстве, мы находим в ней много нового и относимся к ней по-новому. Книга не меняется, но меняемся мы сами. Одни книги не выдерживают даже второго чтения, а есть и такие, которые можно перечитывдть без конца и каждый раз открывать в них новые глубины.
Бородину на всем протяжении его музыкальной жизни приходилось несчетное число раз «перечитывать» произведения композиторов прошлого. Просматривая его письма и статьи, мы видим, как менялось его отношение к этим копмозиторам. Чем старше он становился, тем больше любил Бетховена, Глинку.
Он писал в 1869 году: «Третья симфония Бетховена принадлежит к колоссальным памятникам искусства и далеко опередила свое время. Первые две симфонии Бетховена — как это было уже много раз высказано критикою — относятся еще к эпохе Моцарта и Гайдна; третья симфония не имеет ничего общего с ними. Здесь все ново: и мысль, и развитие ее, и краски оркестра; все дышит таким своеобразием и свежестью, что симфония эта должна быть рассматриваема как родоначальница современной симфонической музыки. Несмотря на то, что симфония написана с лишком шестьдесят лет тому назад, она до сих пор еще почти ни в чем не утратила своей свежести и уступает в силе и глубине разве только лучшим из самых последних творений Бетховена».
А вот к Мендельсону, которым Бородин заигрывался в юности, он стал с годами относиться критически.
В 1868 году он писал:
«Замечательно, что ни одно направление не породило столько бездарных подражателей, как именно эта мендельсо-новская рутина. Скажу более, ни одно направление не испортило так музыкального вкуса, как именно эта внешне страстная, внешне красивая, условная, чистенькая, гладенькая и форменная буржуазная музыка. Она отдалила надолго распространение сильной, трезвой и глубокой по содержанию музыки Шумана, отодвинула даже Бетховена, не говоря уже о Глинке, Шуберте, Листе и других».
Бородину в зрелом возрасте нравились далеко не все произведения Мендельсона, а в детстве ему было трудно отличить внешне красивое от подлинной красоты.
Между тем годы шли. Миша Щиглев поступил, как и предполагалось, в гимназию.
Теперь друзья встречались только по праздникам. Они ждали с нетерпением наступления дней, отмеченных в календаре красной краской. Эти дни они проводили вместе и, как прежде, с утра до вечера занимались музыкой.
Почему же Саша не поступил вместе со своим другом в гимназию?
Авдотье Константиновне страшно было отдавать своего нервного, впечатлительного, болезненного мальчика в казенное учебное заведение, с его казарменным духом, с карцером и розгой, с дикими обычаями и нравами, которые роднили гимназию и кадетский корпус с бурсой. Но возможно, что дело было не только в этом.
В правилах для поступающих в Первую гимназию было сказано:
«При прошении представляются свидетельства: 1) метрическое, консисториею удостоверенное, о рождении и крещении, 2) о родовом или личном дворянстве…»
Саша был сыном дворянина из старого княжеского рода. По родословным книгам, его отец, князь Лука Степанович Гедианов, происходил по прямой линии от князя Гедея, который еще при Иване Грозном «из Орды прииде честно со свои татары на Рус» и при крещении был наречен Николаем.
Отец умер, когда Саше было десять лет. Саша хорошо помнил его. Он любил копировать отца, зачесывая волосы на лоб и на виски и надменно выпячивая нижнюю губу. Запомнились ему и рассказы о предках, о боях и осадных сидениях, в которых князья Гедиановы бились, не щадя живота своего, с врагами Русского государства.
Есть основания предполагать, что по женской линии Лука Степанович происходил от князей Имеретинских: не то бабка, не то прабабка Бородина была царевной Имеретинской.
И все же, несмотря на знатность своих предков, Саша не мог представить в гимназию свидетельства о дворянстве.
В его метрическом свидетельстве было сказано, что он сын Порфирия Ионовича Бородина, дворового человека князя Ге-дианова. Когда Саша родился, его записали сыном княжеского камердинера
С детства Бородин привык видеть у себя дома на стене два портрета, писанные масляными красками На одном из них был изображен важный старик в синем фраке, с маленьким евангелием в руках. По чертам его лица сразу можно было угадать его восточное происхождение. А на другом портрете была изображена необыкновенно красивая молодая женщина в декольтированном платье. Это была мать Саши, Авдотья Константиновна Антонова.
На портрете отца было написано: «Родился в 1772 году». А на портрете матери: «Родилась в 1809 году».
Судя по документам, Л. С. Гедианов родился не в 1772, а в 1774 году. Значит, в год рождения Бородина его отцу было пятьдесят девять лет, а матери только двадцать четыре года.
При каких же обстоятельствах встретился старый князь с молодой и красивой девушкой, которая ни по возрасту, ни по общественному кругу не была ему парой?
Ее отец тоже, как и князь Гедианов, воевал за родину, тоже носил мундир. Но это был мундир не офицера, а солдата.
Когда князь Гедианов встретился с Авдотьей Константиновной, ее, вероятно, еще не величали по имени-отчеству, а называли просто Дуней. Князю легко было приметить хорошенькую девушку: она жила в соседнем доме на той же Гагарин-ской улице у брата, служившего вахтером в Зимнем дворце.
А дальше все пошло так, как тогда водилось. Князю вспомнились молодые годы, когда он был еще лихим поручиком и волочился за красавицами.
Скоро Дуня очутилась в его доме. О браке и речи быть не могло: старый князь был женат, хотя и жил врозь с женой. Да если бы он и был холост или вдов, он не счел бы для себя подходящей женой дочь простого солдата.
Князь Гедианов по-своему крепко полюбил Дуню. Ревность его доходила до того, что он приказывал держать ворота на замке. И Дуне, чтобы повидаться с братом, приходилось перелезать через забор.
Несколько лет прожила она в квартире князя, в доме, выходящем на Гагаринскую, Сергиевскую и Косой переулок. В этом доме и родился у нее 31 октября (12 ноября нового стиля) 1833 года сын Александр*. Там он провел свое раннее детство.
Товарищами его первых игр были племянники — дети сестры, урожденной княжны Гедиановой.
Князь заботился об Авдотье Константиновне: он купил для нее четырехэтажный каменный дом в Измайловском полку, чтобы она могла жить безбедно. Этот дом она потом продала и купила другой на Глазовской. Чтобы создать ей «приличное общественное положение», князь незадолго до своей смерти выдал ее замуж за старого военного врача Христиана Ивановича Клейнеке и отпустил на волю своего крепостного сына. Доктор Клейнеке недолго прожил, и Авдотья Константиновна осталась вдовой.
«Незаконное» происхождение Саши приходилось скрывать. Он считался племянником Авдотьи Константиновны и всегда называл ее «тетушкой», хотя и знал, что она его мать.
Так случилось, что сын князя Гедианова не смог поступить в гимназию и должен был продолжать учиться дома. Для его будущего это было совсем не так плохо. Если бы он считался законным сыном князя, его судьба могла бы сложиться иначе. Уже будучи взрослым, Бородин как-то встретился со своей племянницей со стороны отца, Елизаветой Николаевной Лу-каш. Между ними зашел разговор о воспитании, которое получили она и ее братья — внуки князя Гедианова.
«Лизавета Николаевна,— писал Бородин матери,— очень жалеет, что им всем дали такое глупое воспитание, не учили ничему дельному, что братья были в дурацкой гвардейской школе, откуда вышли олухами и ни на что не годны и ничего не знают».
Конечно, такой одаренный человек, как Бородин, пробился бы к искусству и науке, несмотря на гвардейскую школу и «глупое воспитание». Ведь стал же композитором гвардейский офицер Мусоргский!
Но сколько лишних сил и лишнего времени пришлось бы Бородину затратить на такой обходный путь!
Он никогда не жалел о том, что он не князь, а такой же разночинец, как и большинство его друзей — передовых людей той эпохи.
Воспитываясь дома, а не в закрытом военном учебном заведении, он мог гораздо больше времени уделять самообразованию, чтению научных книг, музыке.
Но, кроме музыки, было и еще одно дело, которое увлекало его не меньше.
Источник: